.jpg) ДМИТРИЙ КАННУНИКОВ. "Толерантность, или ..." СЕРГЕЙ СОБАКИН. ГРИГОРИЙ-"БОГОСЛОВ" СНЕЖАНА ГАЛИМОВА. ТОНКИЙ ШЕЛК ВРЕМЕНИ ИРИНА ДМИТРИЕВСКАЯ. БАБУШКИ И ВНУКИ Комментариев: 2 НАТАША КИНУГАВА."Игрушечный январь" АНФИСА ТРЕТЬЯКОВА. "О РУСЬ, КОМУ ЖЕ ХОРОШО..." Комментариев: 3 АЛЕКСЕЙ ВЕСЕЛОВ. "ВЫРОСЛО ВЕСНОЙ..." МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВА. "И ВСЁ-ТАКИ УСПЕЛИ НА МЕТРО..." ВАЛЕНТИН НЕРВИН. "КОМНАТА СМЕХА..." НИНА ИЩЕНКО. «Русский Лавкрафт» АЛЕКСАНДР БАЛТИН. ПОЭТИКА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ: ПРОГУЛКИ ПО КАЛУГЕ "Необычный путеводитель": Ирина Соляная о книге Александра Евсюкова СЕРГЕЙ УТКИН. "СТИХИ В ОТПЕЧАТКАХ ПРОЗЫ" «Знаки на светлой воде». О поэтической подборке Натальи Баевой в журнале «Москва» СЕРГЕЙ ПАДАЛКИН. ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ. «ЧТО ЗА ПОВЕДЕНИЕ У ЭТОГО ВИДЕНИЯ?» МАРИНА БЕРЕЖНЕВА. "САМОЛЁТИК ВОВКА" НАТА ИГНАТОВА. СТИХИ И ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАТАЛИЯ ВОЛКОВА. "НА ДВЕ МИНУТКИ..." Комментариев: 1 "Летать по небу – лёгкий труд…" (Из сокровищницы поэзии Азербайджана) ПАБЛО САБОРИО. "БАМБУК" (Перевод с английского Сергея Гринева) ЯНА ДЖИН. ANNO DOMINI — ГИБЛЫЕ ДНИ. Перевод Нодара Джин АЛЕНА ПОДОБЕД. «Вольно-невольные» переводы стихотворений Спайка Миллигана Комментариев: 3 ЕЛЕНА САМКОВА. СВЯТАЯ НОЧЬ. Вольные переводы с немецкого Комментариев: 2 |
Просмотров: 0
20 January 2018 года
ВАСИНО КОЛЕСО
(Из восточноевропейских историй второй половины ХХ века)
Между живущих людей безымянным никто не бывает. Гомер. Одиссея.
Отраженье отражает отражения, И от этого происходит движение.
...и как во власти непонятной стихии оказался во власти маленьких вещей: серые, через плохую копирку отпечатанные листы - инструкция, лиловый чертеж - синька, длинный зеленый карандаш. Самое знаменательное: "Отопление и вентиляция" - книга в углу стола. Часть вторая: "Вентиляция". И прочие мелочи, разбросанные в беспорядке: спички, сигареты, железная скрепка, маленькая пепельница по левую руку, узоры и царапины на доске стола. Все это вдруг завладело его существом, и если б это вдруг убрать, он бы задумался: зачем он сам на свете? Некоторые линии на столе напоминали хвосты комет на рисунках в древних рукописях, или частиц в камере Вильсона (из синей книги "Физическая и коллоидная химия"), другие походили на дороги, видимые с самолета. Он проследил одну: она была совсем как дорога куда-то далеко-далеко... Несколько крючков он прочитал как фонарь или как виселицу... Знаки - это рабство? Или освобождение от оков? Или то и другое сразу? Как много всего изображено на столе, который и сам, безусловно, является изображением. Изображением чего? Моста, разумеется.
Утро в точности напоминало предыдущее. Он проснулся в семь по будильнику (медленный неприятный звон). Пошел умыться. В зеркале над раковиной увидел сонное растерянное лицо. Долго курил над чашкой жидкого (заварка кончилась) чая. Пребывание на работе напоминало ему игру, правила которой он никак не мог постичь и всегда чувствовал себя проигравшим. Он поздоровался с вахтером и поднялся в свою комнату, где и остался один со своими бумагами, за столом, доски и царапины которого обозначали тайные немыслимые пути. Некоторое время он был там один, думая сам не зная о чем, или ни о чем вообще не думая. Потом его потребовало к себе начальство. Требование было осуществлено заглядыванием лысой головы и тихим, мягким голосом: - Зайдите ко мне на минуту. В кабинете начальника было душно. Чужие бездушные вещи наполняли его. Блестящие телефонные аппараты, красные папки с бумагами, блокноты, линейки, циркули, прямые холодные карандаши. И, кажется, каждый предмет хотел потеснить соседние, каждый взывал: Вот я!
По своему обыкновению пряча взгляд, начальник разъяснил очередную задачу: нужно было поехать в одно секретное учреждение и выправить там одну совершенно необходимую бумагу. Ввиду секретности учреждения проникновение в него было делом далеко не простым, но: - Вы туда попадете - он кивнул, начальник подмигнул, как будто речь шла о каком-то авантюрном приключении, - но пропуск действителен только один день, оформлять его долго и хлопотно, так что вы уж постарайтесь поторопиться и все, что требуется, сделать сегодня. Ваш пропуск будет готов после обеда, так что прямо из столовой поезжайте с богом. Вот адрес. Вы просто на проходной назовете себя и пропуск вам выдадут.
На двух автобусах проехав половину города, он отыскал на грязной безлюдной улице нужную ему проходную, вошел и оказался перед маленьким окошком. Оттуда спросили: - Ваше имя? Он назвал. Из окошка его некоторое время разглядывали, убедились: - Вы ... - и выдали пропуск, - вложите в паспорт. Охранник в синей куртке с тигром на рукаве открыл перед ним турникет, потом еще дверь железная и скрипучая, и он оказался на секретной территории. Там был чудовищный беспорядок. Какие-то баки, листы железа, мятые вентиляционные короба, куски ржавых труб, доски - все валялось среди больших рыжих луж, расцвеченных нефтяными пятнами. Охранник, впустивший его, вышел с ним на улицу, еще раз заглянул в пропуск и показал узкую дорожку - вроде брода - из остатков асфальта и кирпичей, ведущую к одноэтажному белому домику: - Вам туда. - Спасибо, - и он пустился вприпрыжку. Маленькая желтая дверь - сюда что ли входить? - он не сразу решился - как служебный вход в театре, помедлив, все же толкнул дверь на себя. Дверь открылась, он вошел и оказался в узком пустом коридоре. Стену украшал противопожарный плакат, под ним стояла серебристая чашечка на высокой ножке - для окурков. Людей не было. Все двери по сторонам коридора были плотно закрыты, и за ними не было слышно никакого движения. Необитаемость. Или они все спрятались и наблюдают за ним? Ждут, как он себя проявит? Куда это я попал? И что теперь со мной будет? - почему-то подумал он, хотя ничего страшного, конечно, не должно, было быть… С какой стати? Даже наверно ничего страшного не было... Он постучал в первую дверь. В ответ ни звука. Он осторожно открыл: комната была маленькая, обстановки - два предмета: сияющий унитаз и тусклая желтая раковина... - Фу ты... В конце концов он, разумеется, нашел дверь, за которой были люди, они подробно и многословно объяснили ему, к кому обратиться за требуемой бумагой: к начальнику отдела по фамилии... Да какая разница, - можно просто спросить начальника отдела... Он так и спросил. Начальник оказался толст, усат, выражение лица имел зверское и деловое, но посетителя выслушал ласково и внимательно. - Ладно, сделаем бумагу... Только вот... кому бы это поручить? - Начальник забормотал себе под нос, вспоминая: - Антонины нет, Капитолины нет, Магды нет, Люськи?.. - Люськи тоже нет... В комнату вошла сотрудница. Молодая, толстенькая, в синем платье. - Вот! Сама идет. Видишь, человек сидит? Ему надо бумагу. Форму №... Понимаешь? Ну и прекрасно. Значит нарисуешь... Идите с ней. Она вам все сделает... И начальник сделал рукой широкий приветливый жест, означающий, что аудиенция окончена. Дальше все завертелось с замечательной быстротой. Она привела его в комнату, заставленную пятью или шестью пустыми столами, усадила за один из этих столов, а сама стала готовить бумагу. Движения ее были легки, уверенны, грациозны. Все было закончено в пять минут. Он, сам не зная о чем спросить, спросил: - Что-то у вас пусто, безлюдно здесь, у вас всегда так мало людей? - Смотря по сезону. Теперь вот все разбрелись: кто на овощной базе, кто в Турции… - Понятно... А вы? - А мне врачи не велят... - Улыбнулась она. - Да и сама не хочу. Он улыбнулся, порадовавшись за нее, и распрощался. Седовласый страж за ворота его не выпустил. Посмотрел в пропуск, покачал головой: - Не отмечено... Снова ему пришлось проделать весь путь вброд до белого домика. - Забыли, да? Он сделал лицо означающее: что ж теперь делать, забыл. - И я забыла. - Она начертила закаляку на обороте пропуска: Пожалуйста... И поставила штамп. Он вздохнул: - Грязно у вас. Девушка согласилась: - Грязно. - Как же вы каждый день ходите... А еще секретное предприятие. - Оттого и секретно, что грязно, - и лицо у нее при этом было милое и желанное… Но – надо было идти. Бумага выдана, больше поводов для разговора не было.
Добытая бумага оказалась куском картона средней величины приблизительно квадратной формы. На ней были какие-то цифры, русские и латинские буквы, сокращения слов: "Предпр. Зак. Шифр." В углу размашистыми синими буквами было написано: "Копия", и стояла круглая неразборчивая печать.
Он спрятал бумагу и пошел восвояси.
Мысли в голове вертелись так и сяк, ни на чем определенном не останавливаясь. Появлялись и исчезали. Рабочий день кончился, домой еще не хотелось. Счастье свободы? Можно выбирать? Можно просто идти по темным улицам, всей своей сыростью и чернотой, всеми складками камня ожидающими первого снега? О, мысли мои! Снизойдите, сойдитесь, соединитесь! Автобус был полон людьми, и все они разговаривали. Кто-то жаловался, кто-то хвастал. Он, стоя ко всем спиной, не видел лиц. Только слышал голоса. Одна женщина подробно рассказывала другой, что ест ее маленький: пироги, твороги, каши... Неожиданно он решил поехать к одной своей знакомой, посмотреть, как она живет. Он у нее давно не был. Он вспомнил о ней и сразу стал представлять, как она выглядит, говорит, как она встретит его. И как будто ему надо было проверить, так ли все будет, как он себе представил. Так ли она откинет челку со лба, так ли глупо засмеется: " Что-то ты давно не был..." Он знал, что кроме него у нее было еще два более или менее постоянных спутника. Причем один был одинокий и пьющий, а другой имел жену и трех детей... А, может быть, и не ехать сегодня? Еще когда-нибудь? И вообще…
Ночью ему приснился странный и нелепый сон. Почти цветной. Он лежал в постели, курил. Дым поднимался и уходил. Сон был сер. Потом сон стал красен. Потом - в основном бледен, осторожно бледен - очень бледно сер. И только немного по краям красен - тревожно. С ним вместе работала одна такая милая, юная, некая. Они, собственно, работали в разных отделах, он ее не часто встречал. Работала она, кажется, делопроизводителем или что-то в этом роде – теперь такие должности как-то по-другому называются, красиво и не по-нашему. Она была удивительно бесцветна. Возможно, это она перекрасила сон. Молодая, некрасивая блондинка. Худая, но не стройная. Носит очки. Выражение лица всегда задумчивое. Курит сигареты "Лайт". Говорит мало. Мечтательница? Он так ее себе представлял и чувствовал, что в этом представлении чего-то не хватает. Чего не хватает, он не мог сказать. Как будто, было в ней что-то от рыбы или что-то не совсем здешнее. И вот в этом сне она приснилась ему, пришла. Вошла, села. Он смотрел на ее бледную кожу и думал, что она, пожалуй, и ничего. А почему бы и не... Они разговаривали о сортах чая, о породах деревьев. Но дальше все стало происходить очень странно. Она подошла к нему близко, так близко, как будто хотела заглянуть в него, как в колодец, и он мог бы, если б хотел, заглянуть, но он взгляд отвел, а тронул ее руку, чтоб взять в свою. Она усмехнулась, покачала головой, отошла и прошла по комнате. - Когда-нибудь в другой раз, ладно? Он пожал плечами - ладно. Она улыбнулась, но руки не дала. Он пожал плечами. Она прошлась по комнате, вернулась и наклонилась к нему так, что ее маленькая грудь стала вся видна под кофточкой. Разговор ее был странен: - Красное в желтом, в белом - серое, в середине - знаете ли вы? ...рыжий выгоревший квадрат... В правом верхнем углу фиолетовое... Проступает, как сквозь простуду... Огонь и дым малярийного гнева... Белая метель - и сквозь метель... Будет дождь, серый асфальт, там тоска, но плывет, плывет фиолетовое из угла... Понимаете? Что это? В руках у нее бумага, та, которую он сегодня привез с секретного предприятия. Он попросил: - Отдайте, пожалуйста... Но девчонка выскользнула за дверь и была такова. Только ее шаги долго были слышны по лестнице… Он проснулся. Ничего страшного. Случается, людям снятся и гораздо более глупые сны. На другое утро он на работу явился усталым, разбитым и раздражительным. Привезенную с секретного предприятия бумагу - никуда она не делась, ночью был только сон - отдал начальнику.
Он сидел за столом. За окном был пожар. Пламя захватило целый двухэтажный дом. Но горело довольно далеко, и поэтому никто не обращал внимания. Как будто и не горело. Рано утром, когда было еще темно, и пламя, и зарево над ним было особенно торжественно страшно, слесаря на пороге механической мастерской шумно спорили - само ли загорелось или это строители, которым предстояло сносить этот старый дом, решили облегчить себе работу.
Обеденный перерыв. В конторе, где он работал, своей столовой не было. Был неподалеку большой серый комбинат железобетонных конструкций. Чаще всего он ходил обедать туда. Вдоль длинного однообразного грязно-розового забора. Посещение столовой было действие уже почти ритуальное. Только финал бывал немного скомкан: без занавеса уход: шапку - на голову, руки - в рукава, никому, потому что некому, не сказав "спасибо". Не кричать же через весь зал и не возвращаться же специально для этого к раздаточной стойке. Розовый забор кончается. Высокое крыльцо. Полосатая дверь с пружиной. Через коридор, украшенный белыми флагами объявлений - в высокие двери столовой. Там на стенах кафельная плитка, как в ванной, очередь, короткая, как нигде, квадратные столы, тарелки, подносы. За окном - горы песка и щебенки. Лица обедающих - квадратные, круглые, вытянутые, славянские, тюркские, монгольские... Говорящие, жующие, сосредоточенные… Есть люди, похожие на зверей, есть похожие на птиц, есть похожие на рыб... Но все почему-то люди имеют в своем лице что-то общее с птицей-совой… Все-все… Ни одного исключения не знаю… Стоит только посмотреть внимательней и в каждом увидишь сову…
Расплачиваясь у кассы, он еще раз оглянулся на женщину, выставлявшую на железную стойку обеды, разливающую супы и так далее. Он как будто хотел лучше запомнить ее нездоровое, немолодое, но почему-то всегда веселое лицо... Интересно, есть ли у нее дети? Встретив его взгляд, раздатчица изобразила на своем лице что-то вроде улыбки, почти улыбку, она устала сегодня. Как бы удивилась она, если б узнала, что он часто о ней думает. Но как она могла бы об этом узнать? Неизвестно почему он предполагал, что ее зовут Зинаида. Он выбрал место, установил поднос и, прицепив к вешалке - блестящий никелированный столбик с уродливыми рогами - свое пальто, вернулся за стол. Лучше всех в меню было мелко нарезанное морское чудо - кальмар.
После обеда на работе стало трудно: захотелось спать или, наконец, что-нибудь делать. Неожиданно он вспомнил, как у писателя Гоголя описано механическое чтение - так читал лакей Чичикова Петрушка в начале первого тома "Мертвых душ". Этот необразованный мужик читал, не проникая в смысл, наслаждаясь одним только соединением букв в слова, и мог так читать хоть химию. Захотелось попробовать - как это. Он потащил из шкафа первый попавшийся том, стал читать из разных мест.
"... Реактивные бумажки могут применяться в приборах газоопределителей, а если таковых не имеется, то реактивные бумажки прикрепляются к палке с крючком на конце... …отсутствие паники: бег, толкотня в этих случаях губительны. Если газ застигает внезапно, следует по возможности задержать или ослабить дыхание, воздержаться от кашля и резких движений, закрыть нос и рот платком, тряпкой, частью платья, предварительно смочив их, если это последнее возможно, осмотреться, по какому направлению течет газ и, если это возможно, миновать волну газа без резких движений, подняться выше, чтоб выйти из волны газа, или дойти до ведра с раствором гипосульфита и соды, или до газомаски ...
…к сооружениям для очистки сточных вод относятся: р е ш е т к и , удаляющие из сточной воды наиболее крупные примеси; п е с к о л о в к и , задерживающие наиболее тяжелые, главным образом, минеральные примеси; ж и р о л о в к и , предназначенные для выделения из сточных вод легких, всплывающих примесей; о т с т о и н и к и , задерживающие, главным образом, органические взвешенные примеси, способные осаждаться при малых скоростях движения воды... ...Свойства указанной суспензии во многом зависят от влажности осадков или, что тоже самое, от содержания воды в осадках...
... Применяются разнообразные способы и устройства для удаления осадков, начиная с ручной лопаты и кончая сложными механическими автоматами... ... можно наметить основные способы удаления осадков: р у ч н о й - ручные грабли, бадьи, ведра, лопаты, черпаки, ручные скребки и другие приспособления; м е х а н и ч е с к и й - механические грабли, грейферы, нории, транспортеры... ... во избежание прорыва воды через иловую трубу или большого разжижения осадков не рекомендуется единовременный выпуск осадков большими порциями... ... бывают случай, когда через иловую трубу осадок не выдавливается. Это объясняется наличием плотного осадка, который после перерыва в работе иловой трубы слеживается и не приходит в движение..."
Неожиданно вошедший начальник прервал плавное течение строк. Читающий вздрогнул, как застигнутый за чем-то постыдным. А начальник, войдя, как будто ничего не заметил, и прежде всего спросил о здоровье и самочувствии. Услышав, что все, слава богу, в порядке, попросил закурить. Некоторое время молча курили над занятной книжкой об отстойниках и песколовках, потом, по обыкновению, куда попало пряча взгляд, начальник пожаловался, как непросто ему жить и работать. - А тут вот еще какое дело... Мне даже неудобно вам это поручать, но больше некому... А сам я, честное слово, не могу - занят... А дело тонкое... Тут не столько производственная, сколько моральная необходимость. Наше учреждение, дай ему бог еще сто лет простоять, скоро отмечает юбилей: полвека - не шутка... Так вот нужно найти один исторический документ. Справку, подтверждающую наш почтенный возраст и, так сказать, первородство. Дело в том, что учреждение наше в таком-то году переименовали, а под нашим прежним именем выступает теперь совершенно другое заведение - безнадежно убыточное и бесперспективное... Но именно они собираются отметить наш юбилей, как свой. Так вот соответствующее подтверждение мы и должны найти... Понимаете?.. Приоткрылась дверь и в комнату всунулась симпатичная женская головка: К телефону... Начальник убежал, бросив на ходу: - Ладно. Немного позже зайдешь ко мне, поговорим подробно. Но и зайти к начальнику поговорить не пришлось - начальник снова спешил, и состоявшийся разговор был краток, происходил на лестнице, причем начальник говорил одновременно еще с одним человеком - в белой куртке. Этот человек казался почему-то похожим на портрет, на карандашный рисунок, и даже на карикатурный... Собственно, что тут особенного? Портреты разве не с человеков срисовывают? Даже и карикатурные… Начальник попеременно поворачивался то в одну, то в другую сторону, находился одновременно как бы в двух разных плоскостях - в пересечении плоскостей, он плавно поворачивался и бросал слова направо-налево. Налево, в направлении коридора: - ... придется обратиться к архиву... Направо, карандашному человеку: - ... и, когда вы подтвердите свое согласие, мы в свою очередь... и т. д...
Что ж - архив - так архив ... Архив был большой картонной коробкой, хранящейся в дальнем углу коридора. Там было пыльно, множество бумаг, чертежей, свитков, туда было неприятно и не хотелось лезть, но, если надо... - Нет! Вы не поняли... Это совершенно другой архив, не наш - настоящий... Это в Зоевом переулке. Завтра поезжайте. Можете прямо из дома... ...Но и к тому "архиву", который был в большой коробке, пришлось обратиться - за отношением полуторагодичной давности о поставках машиностроительным заводом некондиционного оборудования по бросовым ценам.
Там был прах, пыль, дрянь. Слова и заголовки бумаг с линиями чертежей казались сплетенными в одно. Плоские изображения смяты, искривлены, перемешаны в трехмерную кашу. Вокруг любых осей поворачивались виды, планы, направляющие, хвостовики, адреса, заголовки, фамилии и красивые неразборчивые подписи. На полях одного небольшого формата попалось странное заявление, кем-то оставленное должно быть в минуту раздумья. Чистая лирика, к технической стороне вопроса явно не относящаяся. Чертеж изображал втулку, а сбоку от нее были тусклые, нетвердые слова: "Аппарат летательный летает" Он перечитал строку раз, другой, строка преследовала его весь вечер, она вспоминалась, напевалась, бормоталась. Он под нее и уснул: Аппарат летательный летает... летает... летает... Сон.
Еще один день начался в точности, как ряд предыдущих, с той разницей, что идти надо было не на работу, а в Зоев переулок, в архив. Зоев переулок был тих, мал, и никто из прохожих не мог указать, где такой находится. Наконец, одна старая женщина: - Да, я там живу, это рядом, идемте - я покажу. Идти за женщиной было нелегко, она часто перебирала ногами, но шла медленно, в неровных местах улицы, поддерживая ее, он сам раза два попал в лужу. Переулок оказался - как игрушечный, невысокие дома с маленькими серыми окнами. На вторые этажи вели со дворов темные деревянные лестницы. То есть, лестницы были не темные: просто некрашеное дерево от времени потемнело. Вдоль стен крытые переходы и огромные балконы, как бы специально устроенные для чаепитий и больших семейных праздников. Казалось, в этих домах должны были проживать не сегодняшние реальные люди, а другие - из далекого патриархального века, в наш сегодняшний день попавшие просто как исторический факт. Шел мелкий дождь, и в переулке с крыш текло совсем по-домашнему. Искомый архив помещался в глубине двора. Посреди двора была большая клумба, обрамленная красными кирпичами, цветы давно отцвели, оставшиеся стебли были темны от дождя. … Вошел, сказал, кто таков, откуда и по какому вопросу прибыл, и после непродолжительного раздумья был пропущен внутрь.
Заведовала архивом старушонка вроде той, что помогла ему найти переулок. Выслушав его, она повздыхала, пожаловалась на недостаток работников и на трудность быстрого отыскания нужной справки. - Так что вы уж постарайтесь сами ее найти... Разумеется, наша сотрудница вам поможет, все покажет. Вместе с ней будете искать. А когда найдете, мы вам снимем копию и заверим... Еще она предложила в помощь два каталога - предметный и алфавитный, в которых он, правда, не смог ничего понять и которые, как призналась старушка, отражали в лучшем случае половину хранимого фонда. Выделенная помощница оказалась молоденькой дурой. Ее запросто можно было принять за школьницу. Своей работой в архиве, больше - своей принадлежностью к архиву она страшно гордилась, и поэтому ко всему, что не архив, ко всем, кто не в архиве, кто не посвящен, невольно относилась снисходительно и свысока. Но она была так легка, проворна, готова во всем помочь - только б найти искомое, что ее вполне можно было назвать добровольной помощницей. К тому же - мила и предупредительна. Стена полок, с которой она предложила начать: "Здесь может оказаться ваша справка, давайте отсюда начнем...", была набита бумагами от пола до потолка - сколько же нужно часов, чтоб пересмотреть все это? Он смотрел на поле предстоящего подвига широко открытыми глазами, прошел вдоль ряда, тронул один гроссбух, потянул - и едва не был погребен заживо. - Осторожно, здесь непрочно у нас, - успела сказать девушка. Пласт папок, связок, картонок, книг качнулся и навис над ним, задрожал в неустойчивом равновесии, грозя немедля обрушиться. Сейчас эта лавина полетит по нему, ударяя по голове и плечам. Но страшнее было, что, выбравшись из-под обвала, придется собрать и восстановить эту стену. Она ведь собрана и построена наверняка в каком-нибудь непростом порядке. Тьма бумаг. Хватит ли на нее всей человеческой жизни? - Держитесь! - архивистка пришла на помощь, и, став на цыпочки, стала быстро и ловко поправлять и выравнивать пошатнувшиеся бумаги. Он стоял с поднятыми вверх руками, а она ходила вокруг него. Он слышал ее дыхание, у него застучало в висках. Все труднее было держать готовый рухнуть, пыльный картонный свод. А она поправляла полки, вправляла, как выбитые кости, огромные массы бумаг, обращая на него не больше внимания, чем если б он был действительно столб, задевала его руками, грудью, даже животом. - Все в порядке. Можете отпустить, - она довольно быстро справилась с аварией, - Видите, как у нас бывает,- она сняла с его плеча соринку,- здесь я лучше сама посмотрю... Заглянув в несколько бумаг, взятых из разных мест, видимо, наугад, она объявила, что начать, наверно, следует не отсюда, потому что здесь "какие-то другие бумаги". Он едва поспевал за ней через путаницу ходов, вдоль бесчисленных стеллажей.
А не был ли обвал специально задуман? Вроде испытания для нового человека? Своего рода посвящение в архив? Чтоб он сразу понял, где находится, что это - не просто так... Многие ведь думают пренебрежительно об этой бумажной пыли, скуке и сухости... Они пришли в тесный сумрачный угол, где под плакатом "Уходя, гасите свет!" в свете одинокой лампочки стоял большой коричневый шкаф. Угол был тих, жутковат, звуки внешнего мира совершенно не проникали туда. - Здесь. Из связки ключей юная хранительница выделила тот, что от шкафа. Распахнув скрипучую дверь, она стала выбрасывать на пол содержимое. - Здесь смотрите, здесь и здесь... Он пристроился на полу перебирать листочки, а она, выпотрошив примерно половину шкафа, сходила куда-то за двумя высокими табуретами, поставив ему один, села на другой сама, и они стали работать вместе. Иногда она ему что-нибудь показывала: - Не это? - Нет. Все было далеко от того, что они искали. Возвращая листок, он смотрел украдкой на ее поджатые коленки, быстрые руки, плотно сжатые губы. А на них обоих потревоженными полками печально смотрел открытый шкаф. Так продолжалось некоторое время. Сколько - неизвестно, но не очень много.
Когда со шкафом было покончено, справка в нем не найдена, а все выброшенное водворено обратно, они перешли на другое место. Дальше поиск продолжался уже совсем непостижимыми путями. Они заглядывали то в одно, то в другое помещение - нигде не было ни души - она снимала с полок, а он перелистывал, просматривал и возвращал. Ему казалось, что они движутся кругами. Справка не находилась. Так прошло время до обеда. Он долго стеснялся, отказывался и все же был усажен пить чай в компании трех архивисток. Неизвестно откуда появившиеся подруги его помощницы были не так хороши. Черты их были более крупные, более расплывчатые или наоборот - более определенные. Казалось, они были случайно прибиты судьбой к архиву и всей душой устремлены на волю - к шумным улицам, магазинам, кино. К чему еще? К дискотекам и клубам? Наверно. Разговор за шатким столиком был нескладен - дамы как будто ждали от него какого-то слова, жеста, объяснения... Объяснения чему? - Разве они спрашивали о чем-то? Разве он, или они, или архив, или вся жизнь была загадкой? Он сидел неопределенно и безответно. Было ему неловко - все казалось, что молодые женщины жуют бутерброды непринужденней, чем он. Заглянула заведующая: - Ну, как? Не нашли? Нет пока? Ищите... - Ищите, - криво усмехнулась простоватая рыжая жрица реестров и каталогов, - может, найдете... Он спрятал глаза от ее прямо на него уставленных глаз, стал смотреть в стакан с чаем. - Трудно у нас что-нибудь найти, - поддержала другая. Он посочувствовал, как много у них бумаг, как трудно. Девушки стали жаловаться все разом, дополняя и перебивая: - К нам многие приносят - что где найдут - им это кажется важным... Свое. По телефону звонят: "Приезжайте для оценки, разбора и систематизации..." А уж какая там систематизация... "Я, говорят они, вы понимаете, сосуд непрочный, а у вас все же хранилище... И это все так дорого для моей памяти и, вы понимаете, это просто необходимо сберечь..." Вот мы и храним - какой-нибудь клочок с немыслимыми каракулями, письмецо без конверта, конверт без письма. Дневник - каждодневная от нечего делать запись своего ничегонеделанья... Или фотографии: Он на фоне памятника. Он в детстве. Он на выпускном вечере. Он с ней на пляже. Иногда он подклеен, иногда она подклеена. И все прибывает! В прошлом месяце много прибавилось: привезли чертежи прежде секретных, а теперь рассекреченных кораблей... Целую комнату ими заняли... Не хотите посмотреть? Красивые... Архивные подруги чуть не фыркнули. - Самих-то кораблей уже нет - их порезали в металлолом - потому и чертежи рассекретили, но их еще для чего-то нужно хранить - вот нам и привезли - нам все привозят, что никому не нужно...
… Общий вид корабля в синих линиях на желтой бумаге действительно впечатлял. Тело корабля было совсем не воинственно, скорее неосторожно. Как глубокий выдох, как нечаянно сказанное слово, стремительная линия уходила в корму и возвращалась сверху, рассыпаясь в мелкие подробности надстроек - рубок, труб, иллюминаторов, схематически показанных пушек... Девушка со вздохом отложила чертеж: - Ладно. Пойдемте дальше искать. Они искали, от прыгающих строчек у него заболели глаза. Слова слились в одну тупую бессловесную массу. Справки не было. Иногда он с испугом думал, что в том огромном количестве листков, которое прошло перед его глазами, он мог сто раз встретить эту справку и пропустить, не заметив. В спешке работы он, кажется, иногда забывал, что ищет. Они вышли в коридор, стояли у окна. В окно дуло. - Дайте и мне сигарету... - И вся работа у вас такая? - В основном, - она засмеялась, выпустила дым, - живем в непрерывном поиске... Где-то хлопнула дверь. Слышно было, как шумит в трубе вода, как трещит ртуть в лампе. - Ну, как? Посмотрим еще, или вы устали? Они погасили сигареты и пошли.
"Я пришел к выводу, что не только организмы, мозги, но и сами умы человеков устроены в основном одинаково ... Так и меньше надо говорить самому и меньше слушать чужие разговоры об индивидуальности, творческой или иной, самобытности и прочее..." Этот вывод содержался за зеленой обложкой с надписью: "Тетрадка, полная серьезных и важных мыслей". Первый лист из нее был вырван, второй чист, а третий содержал эту самую запись. Тетрадку он, сам не зная зачем, случайно взял с большой, шаткой, стоящей на проходе полки. - Тут у нас из бумаг неизвестных писателей, художников, просто никому неизвестных людей, дневники, письма ... - То есть как неизвестных? - Ну, имена неизвестны... А мы храним. Мы все храним. Для чего - сами не знаем. Неверно, надо... Вся беда только в том, что чем больше бумаг, тем труднее найти среди них нужную. - Это я уже понял. Когда слишком много, это почти то же самое, что совсем ничего нет...
Зеленая тетрадка более ничего связного не содержала. Только отдельные строчки вкривь и вкось на разных листах: "Жизнь свою проведя в размышлениях о том и об этом... О личной жизни вам лучше всего расскажет... Жизнь была счастливой... Жизнь была бы счастливой... Имя ему было... Имя ему дано было, чтоб различаться... ….в виду совершенной невыносимости обстоятельств... Чувство, которое он при этом испытывал, было сходно с чувством благодарности... Окно. Занавеска. Развертывание знамени. Раз-вертывание занавески справа-налево. Развертывание знамени полка-квартиры... Странен мир полу-тот, полу-этот... Един есть Бог, един Де..." Мягкий женский голос откуда-то издалека через коридор позвал его спутницу в архивных странствиях к телефону. - Я скоро вернусь. Подождите. Девочка убежала. Он остался один перед целой полкой бумажных свидетельств жизни, ума и чувств никому не известных людей. Он стал листать по инерции, за день привык. Несколько страниц прочитал подряд и без пропусков:
«Когда вырасту, обязательно буду курить, как и теперь, сигареты "Чайка". Их маленькая (в ней десять штук) коробочка, так хорошо открывается с уголка. Только я буду покупать их открыто, не таясь и не боясь, что мне скажут: "Отойди, мальчик"… А еще раньше, совсем маленьким, я не понимал, отчего взрослые, безусловно, имея возможность, не покупают себе жестяные игрушечные пистолеты. Но больше всего мне, конечно, хотелось красть. Что угодно. Даже совершенно не нужную мне пачку поваренной соли "Помол № 1". Как это было? Хотелось бы вспомнить точнее. Предзакатный час. Окраина. Теплый вечерний свет. Резкий выход из-за угла на площадь. До этого я шел узкой улицей с домами в один этаж, где окна все были занавешены или даже закрыты ставнями. А тут, на маленькой площади, помещается так много всего: продмаг, хозмаг, мороженщица, автобусная остановка и большая вывеска "Металлоремонт". Но прежде всего этот забор. Он ограждает, кажется, больничную территорию, но так хорош сам собой, что и не поинтересуешься узнать, что за ним. Вырванная планка висит на одном последнем гвозде, прямая, как рыцарский меч. Белые пятна, оставшиеся от смытых дождем объявлений - как облака, или как острова. Хозмаг. Дверь всхлипывает, когда входят, и смеется вслед уходящим. Через окно видны бока огромных тазов. Девочка ест мороженное и думает о чем-то важном. Мне никогда не узнать, о чем. У пивной очередь. Возбужденные, лихие лица. Кажется, даже издали я слышу глотки. Не знаю зачем, я зашел в продуктовый. Там стояли строем трехлитровые банки с солеными огурцами, большие, как маленькие астероиды, пирамиды жестянок с сардинами и брикеты сухого киселя, ничтожные поодиночке, но важные и уверенные от того, как их много - целая полка, плечом к плечу. Тут эта соль и попалась мне на глаза. Едва не рассыпающиеся килограммовые пачки "Поваренная. Помол №1". И мне вдруг захотелось, пока продавщица отвернулась, схватить такую пачку и бежать с ней без оглядки. Зачем? Куда? Совершенно не понимаю. Хотелось бежать быстро, как ветер, прочь от всех, с глаз долой, в лес, в поле, прижимая к груди рваную пачку поваренной соли... … Мы так плохо понимаем детей. Только и оправдания, что и нас, когда мы были детьми, тоже совершенно не понимали. Когда-то я работал в школе учителем. Дети не понимали меня. Я - их тоже.
Низкая комнатка. Маленькое окошко. За окном - лошадь с телегой. Жесткий диван. Папиросы. Мой бедный мир, в который я возвращался с уроков и отдыхал, стараясь ни о чем не думать до начала следующего дня. Тогда-то я и влюбился в учительницу английского языка Воронину Марину Викторовну. Входя в класс, она милым голосом, говорила: - Гуд монинг! Класс, лениво поднявшись, недружно раскатисто ей отвечал: - Гуд монинг, Марина Викторовна! И это "Марина Викторовна" неестественно прилепленное к чуждому "Гудмонинг", сиротливо и жалко раскачивалось на волнах голосов. Казалось, оно выплывало из класса в окна и уплывало далеко за черные кроны деревьев. Вороны на пустыре -"Что там?" - удивленно поднимали головы. Как учитель она была еще бездарней меня и сильнее это переживала. Я обнимал ее в городском парке. На реке гудел пароход. Я чувствовал себя очень взрослым и приходил в класс с важностью на лице и чувством превосходства. Мои школяры строгости моей не верили и шумели по-прежнему безобразно. - Здравствуйте-пожалуйста! Садитесь... Ну, ты! Перестань вертеться, пожалуйста. Запишите тему: Теория эволюции. Мало кто спешит записать, хоть я и вывел на доске своим смеющимся почерком трудное слово "эволюция". Честно говоря, я сам с трудом понимал, в чем пытался наставлять своих питомцев. Мне теперь очень жаль, что этот набор условностей и упрощений подается несовершеннолетним, как истина в последней инстанции, как данное раз и навсегда... Итак, теория эволюции: "Дарвин обобщил имевшийся до него богатый фактический материал ..." Надо заметить, я никогда не терял надежды на совершенное и полное счастье. Я смотрю в окно и думаю, что где-то там, впереди, что-то очень хорошее терпеливо ожидает меня... - Петр Афанасьевич, можно мне выйти? - Дуй. - А мне? - После, когда он придет. - Ну, Петр Афанасьевич, мне очень нужно... - Знаешь что! - Петр Афанасьевич, отпустите его... очень некрасиво может получиться, если он не выдержит и тут при всех в классе... Мне очень хочется дать этому нахалу по роже, но - нельзя, и очень хорошо, что нельзя, через минуту раздражение мое совершенно утихает, глядя на его вечно счастливую неунывающую физиономию... Я смотрю на скромную голову отличницы, с безнадежной прилежностью пытающейся слушать про изменчивость видов: Бедная ты моя! Сердце мое совершенно смиряется.
У меня "окно". Свободный урок. Я играю в шахматы с учителем географии Николаем Алексеевичем. Он бывший ветеринарный врач и в учителя пошел после аварии и сотрясения мозга. Работа ветеринара с бессонными ночами, неожиданными вывозами и так далее показалась ему теперь трудна. Ему надо было бы преподавать биологию, но когда он пришел, это место было уже занято мной. Теперь он преподает пока географию и отчасти ждет, когда я уйду. Но только отчасти. Теории эволюции и особенно основ генетики с законами Менделя он тоже не понимает и смертельно боится. Мне почему-то хочется видеть его в медицинском халате с острым колом в руке. Этим колом он будет сейчас пробивать бок обожравшейся травой коровы. Он хороший врач. Он спасет корову. Я проигрываю и выхожу в коридор. Навстречу бежит плачущая Марина Викторовна. Куда она бежит? Никуда. Из класса вон. По коридору - и назад, в класс, где дети, отпраздновав победу, готовят ей что-нибудь еще чрезвычайно остроумное - кошку в стол, выпачканный мелом стул... К тому же к ней придирается краснолицая, плотоядная завуч. - Вам,- говорит она ей,- самой няньки нужны, а вы себе позволяете... Я психую, но стараюсь сохранить спокойствие. - Плюнь ты на нее, не обращай внимания...
Мы лежим на моем паршивом диване. Я бормочу, засыпая: - Гуд монинг, Марина Викторовна...
Марина Викторовна добрая. У нее хороший характер. Мы почти никогда не ссоримся. Мы одни, закрывшись в пустом классе. За дверью то и дело топот и голоса пробегающих школьников. От этих звуков Марина меняется в лице, вздрагивает: - Перестань, ради бога! Не надо... Я сойду с ума...
Разбор моего урока. - Что вы делаете! Что это такое! Зачем вы им говорите "Спасибо", "Пожалуйста"? Они вам на голову сядут! - Вот так! - Директриса стучит кулаком по столу, - вот так их надо держать! Иначе... Иначе ничего не получится. Крадучись, я выбираюсь из школы. Заранее представляю, как завтра я буду удивленно и растерянно разводить руками: - Как? Разве вчера было собрание? Я не знал... Неожиданно приходит автобус. Я прыгаю в него, и в голове у меня звенит: "Как? Разве вчера было собрание..."
В другой папке оказалась отпечатанная на машинке статья с размашистой карандашной отметкой : "Со стенн. Газеты»: "Уже недалеко то время, когда мы все начнем жить и трудиться в новом …. году..." Однако этот стенной писатель умел закрутить фразу... Под статьей лежал длинный, в несколько листов, список нуждающихся в улучшении жилищных условий. Девушки что-то уж очень долго не было. Он оставался один и начал уже волноваться.
Один среди пыли и праха, бывших нужными, а теперь просто хранящихся бумаг. Он бы хотел пойти поискать свою архивистку, но не был уверен - найдет ли, и не был даже уверен, что сможет самостоятельно найти путь к выходу. Здание, хоть и казалось снаружи небольшим, было так густо начинено перегородками, полками и шкафами, что в нем можно было легко заблудиться. К тому же встреченный на пути кем-нибудь из сотрудниц - как он им покажется - посторонний человек без присмотра и сопровождения блуждающий по хранилищу. Была большая, равномерно лежащая, по всем сторонам расходящаяся тишина в казенном свете ламп в жестяных конусах. От чувства этой тишины и легкого страха-неловкости он пустился дальше - перебирать. Спрятать голову в бумаги - вооружиться против неподвижности - движением знаков, слов, смыслов. На этот раз ему попался альбом в неровно выгоревшей серой обложке. Альбом с рисунками и фотографиями. Первый рисунок изображал поезд, идущий в степи на закате. В окнах вагонов были неразборчивые пассажирские лица. На втором листе была обнаженная натура, крупная, красивая, причем в углу листа, видимо, для сравнения с рисунком, была наклеена фотография той же самой или очень похожей женщины. Третий лист занимал семейный фотопортрет: пять улыбающихся ртов и, соответственно, вдвое больше смеющихся глаз. Сверху, гуашью по фотобумаге был пририсован тонкий стебель ландыша с пятью, по числу лиц цветками. Дальше - городской пейзаж с ярко-красной кирпичной стеной и женской головой в окне... Еще городской - с заводскими трубами и домом под вывеской "Школа". Следующее произведение называлось "В гостях". Нижнюю половину листа занимали собравшиеся гости - много разговаривающих, оказывающих друг другу знаки внимания людей, а над ними помещались часы: одни большие, с маятником и шестеренками механизма наружу и много маленьких, ручных и карманных. Предполагалось, видимо, что часы идут, или наоборот - не идут, так как все они показывали разное время. За гостями следовал батальный сюжет: маленькие военные на огромных конях в клубах дыма и пыли. Следующий рисунок был абстрактный - трудно пересказать, как он выглядел. Название ему было - "Приблизительный чертеж неизвестности". За рисунками пестрой взволнованной толпой понеслись фотографии. Пейзажи, памятники, архитектура, вещи: какие-то машины, мебель, посуда, цветы; животные: пара лошадей, собак, голубь, кошка, кенгуру, две курицы на насесте. Но больше было людей. Разных людей в разных случаях и обстоятельствах жизни. Кушающих, купающихся, дерущихся, дарящих, любящих, ищущих, рисующих, смеющихся, одевающихся, раздевающихся, играющих в карты, клянущихся, работающих, резвящихся, говорящих. Люди были застигнуты на фоне природы, памятников, на улицах, во дворах, в парках и скверах, на паперти, на крышах, в автомобилях, самолетах, прогулочных лодках и на борту больших кораблей. Люди стояли у станков и поточных линий, сидели за столами и столиками... Люди были в пивных и бильярдных, группами и поодиночке, дома и в гостях, в ванных, постелях, в музее и зоологическом саду, на приеме у врача, в фотоателье. Одни специально позировали: застыв, застенчиво, мрачно, вызывающе или весело смотрели в объектив, других фотограф застиг за каким-нибудь делом внезапно.
Пара глаз, рот с носом, щеки, подбородок, уши, лоб... Это и есть лицо человеческое... Он глотал фотографии, как кит воду. Пара глаз, рот с носом, щеки, подбородок, уши, лоб... Столько-то штук человеческих лиц. То есть, изображений лиц… Еще рисунки и какие-то записки на тонких желтоватых листах, оставшиеся между пластами альбома. Отражение целой жизни. Множества жизней. Неужели их больше здесь не увидит никто? Так они и останутся навеки между статьей из стенн. газеты и ворохами казенных бумаг? Украсть альбом? Вынести вон под одеждой? Извлечь из архивной пыли. Спасти исчезающие черты.
Девушка все не шла. Беспокойство снова охватило его: тишина, одиночество, ряды бумаг. И еще эта двойственность - брать или не брать? Во-первых, можно ли брать чужое, которое тебе доверили, оставили наедине, не опасаясь, а во-вторых, еще и страх: "а повяжут?" Просто спросят у входа. Он уже выйдет, а ему вслед закричат: "Молодой человек, вернитесь, пожалуйста... Что это у вас под пиджаком?" Он снова раскрыл альбом, чтоб уйти от своих мыслей прочь - в картинки и фотографии, когда из дальних глубин архива стали слышны шаги и шорох. Его архивистка возвращается, или кто? Через минуту, полминуты будет поздно... Или не брать? А потом мучиться сожалением - зачем не взял. Шаги были уже совсем близко, когда он стал лихорадочно прятать альбом под рубаху... В конце концов, зачем они здесь, зачем обречены на гибель, на неизвестность...
Девушка появилась неожиданно и не с той стороны, откуда он ждал. Смятение и смущение его были ужасны. Казалось, она тоже была чем-то смущена, взволнована. Неужели она все поняла и молчит только потому, что слов не находит?
- Ну, как вы здесь один?.. Простите, я долго, мама звонила. К нему вернулась способность соображать. Он догадался, что забота на прекрасном челе происходит от других, не связанным с ним и со спрятанным альбомом причин. - Так, - он сделал неопределенный жест, - Нормально... - он постарался незаметно переместить украденный альбом поудобней, чтоб освободить вполне хотя бы одну руку. - Видите ли, - сказала девушка, - мы через полчаса закрываемся, так что вы приходите завтра... Она его проводила до проходной. Он ловко ускользнул к вешалке и там, прячась в пальто, совсем удобно устроил свою тайную ношу. Одетый, он совсем осмелел и пробормотал, что "ему очень-очень жаль расставаться". - Вы еще придете? - Да, наверно... Одну секунду, я сейчас позвоню и вам точно скажу, когда... В большую трубку черного телефона он доложил начальнику результаты экспедиции. - А?.. Что?... Справку не нашли?.. Ну и не надо... Ну ее совсем... Я договорился, нам другую дадут. Нет-нет... Приезжайте сюда... Срочно приезжайте... Рабочий день кончается? - Все равно приезжайте. Обязательно. Да. Жду. - Ну, как? Договорились? Когда в следующий раз придете? - девушка смотрела на него в упор. - Да я... я еще точно не знаю, когда... Знаете, - он догадался, - дайте мне ваш телефон, я позвоню... - Записывайте... завтра выходной, но мы работаем. Звоните... - Как вас спросить? - он опустил глаза, - Как вас зовут? Возникло взаимное удивление и неловкость. За целый день, проведенный вместе, он не поинтересовался ее именем, как будто у нее вовсе и не было имени, обращались в безличной форме... Уходя, он обернулся и посмотрел на нее широко открытыми глазами, то ли запомнить стараясь, то ли высказать что-то своим взглядом…
Ехать против воли на службу в самом конце рабочего дня из архива в автобусе, полном больших усталых осенних лиц и темных мокрых драповых спин было не слишком приятно. Волны архивных бумаг, по которым он долгое время плыл, теперь сами плыли и плавали в его мозгу. Внутри образовывалась какая-то отвратительная аварийная пустота. И еще он так нескладно простился с девушкой из архива. Как убежал. И от этого было грустно. Наверно, с такой хорошо было бы в детстве лазать по садам, чердакам и крышам. Не странно ли, что она служит в архиве? Ее легче представить разрезающей водную гладь, скачущей верхом по степи, прыгающей с парашютом, словом - обгоняющей пространство и время... И как он безобразно все скомкал и смял поспешностью своего ухода... Правда, он уносил с собой клочок с ее телефоном и именем, и это оставляло надежду все когда-нибудь переменить и поправить.
Украденный альбом он вынул из-под одежды и завернул в газету, которую специально для этого купил на углу в киоске. Он забежал в какой-то подъезд и там, озираясь, вынул и упаковал свой трофей. Я, подумал он, несу под мышкой больше тысячи человеческих лиц. Из автобуса он выбрался с горечью во рту, пустотой в сердце, волнами и кругами в глазах, досадным дребезжанием в голове. Ему осталось пересечь темный, временно мертвый - по случаю межсезонья пустой стадион. Он немного оживился ходьбой. Линии луж напоминали ему чертеж из альбома " Приблизительный чертеж неизвестности" - только там они носили гордые названия: "Верная линия", " Предполагаемая линия", "Биссекрисса угла разлета", "Квадратичный разброс" и другие, а здесь, на асфальте и гравии - лишь высвечивались фонарем и уплывали из поля зрения - в темноту или в даль. Начальник встретил его на лестнице. По обыкновению, неизвестно куда пряча глаза, начал: - Вот и вы... Здравствуйте... Значит, не нашли?.. Только день потеряли... Ага... Ну, ничего... Да вы проходите... Что это у вас? - Кладите куда-нибудь... Раздевайтесь и проходите... Вы не промокли? Сейчас выяснится, что тут у них за срочность… Однако, начальник повел его не в свой кабинет, а дальше по коридору. Там была большая комната для разных торжественных мероприятий. - Проходите, проходите... - начальник пропустил его вперед и тихонечко подтолкнул. Дверь широко раскрылась перед ним, и он увидел большой стол, составленный из многих маленьких канцелярских. Стол был празднично застелен чистой миллиметровкой - сеткой вниз, чтоб не рябило в глазах. Только один угол, где бумаги, видимо, не хватило, был застлан просто газетой. Белые и красные цветы, апельсины, плов, жареные лещи на тарелках со скромной надписью "Общепит", сыры, печенье. Два больших электрических самовара, чашки... Цветы возвышались большими стройными букетами... Сон. За столом сидели сослуживцы обоего пола и словно ждали какой-то команды. Команду подал начальник, сияя, улыбаясь и пряча глаза: - Ну, вот... Я его привел... Недружным громким хором все стали его поздравлять. Он стоял с краденым альбомом, который он так и не выпустил из рук, и не понимал, в чем дело. - Конечно же, - радовался начальник, - он не понимает, он же еще ничего не знает... Кто ему объяснит? Вызвалось несколько голосов, но их слова были едва понятны. Было что-то сказано про хождение вдоль гладкой стены, на которую - как подняться? И о том, что все знать, все помнить - это противоречит нашему сознанию, его характеру и существу... И, наконец, о том, что труд грязен, а потому страшен... - Ну, ну! Это вы уж слишком, - начальник поднял руку, останавливая невразумительные и сбивчивые голоса... - Просто у нас есть своя маленькая традиция: мы иногда собираемся вместе и празднуем. Это понятно? Это было понятно. И стол, и все в сборе, и оживленные лица… - Вы недавно у нас работаете, на таком празднике впервые, и для вас будет естественно спросить: "Что собственно такое мы празднуем? - Так? Он задумался. Важно ли ему, чтоб начальник объяснил, по какому случаю?.. Не так уж важно, пожалуй... Вежливо ли ответить так? Начальник хочет, может быть, поговорить, возможно, удивить его. Он окинул взглядом стол и собравшихся и сказал: - Все равно. Я думаю - что-нибудь хорошее.... - Браво! Это самый умный из всех новеньких, какие были, - та самая, задумчивая, некрасивая и бледная девушка, которая снилась ему, смеялась из-за стола и била в ладоши. Сегодня она была возбуждена, раскраснелась. - Да. Ваш ответ прекрасен, - продолжал начальник, - тем более, что на вопрос по какому поводу мы здесь собрались, я только одно могу сказать: ни по какому. Безо всякого повода. Да-с... Это, может быть, не так легко объяснить... Простые вещи имеют тот существенный недостаток, что их бывает особенно трудно понять... Тем более, что говорить я не мастер... Пусть нам сегодня расскажет... - он подмигнул кому-то за столом, - ибо здесь кончается то, что я знаю, и начинается то, чего я, к сожалению, пока не знаю... Итак, давайте мы все послушаем - некоторым из нас тоже не мешает это напомнить, а то многие стали видеть и понимать только одно внешнее, - начальник выразительно покосился на самовар... Пока взявший слово прокашливался и оглядывал собравшихся умными глазами усталого человека, вновь пришедшего усадили за стол. Та, некрасивая, взялась ухаживать за ним, накладывать ему в тарелку и наливать в стакан. Комкая в руках салфетку, оратор начал говорить. Громко, раздельно, как человек, привыкший утверждать и убеждать, привыкший говорить умно, говорить правду: - Дело в том, что мы все постоянно живем в мире маленьких праздников ... - оратор обвел глазами слушающих, как будто ища несогласных, чтоб немедленно опровергнуть возможное возражение, - Да... Мы живем в мире, или - лучше сказать - в хоре незаметных минутных, сиюминутных радостей... Мы пробегаем их... Или - лучше сказать - мы пробегаем по ним, как по блестящим камням брода, быстрые бурные речки наших страстей, забот, опасностей… Эти бесчисленные радости происходят от маленьких, незаметных порою причин. Какая-нибудь встреча, улыбка, удача, чье-нибудь доброе, или хотя бы не злое слово, ожидание, воспоминание, находка, маленькое открытие, хорошо выполненная работа или даже просто правильная работа организма... Список этот можно продолжать без конца - разве мало на свете хороших причин… Тем более, что мы часто их даже не замечаем - не узнаем, а еще чаще связываем явления с другими, выдуманными нами лично или подвернувшимися случайно причинами. Маленькие радости забываются, затираются, теряются в потоке мирской суеты. И правильно! И пусть! Не надо жалеть! И даже не всегда обязательно помнить. Радость пришла и ушла. Она уже сделала свое маленькое великое дело… Тем более, что, отмечая, фиксируя, останавливаясь и задумываясь, мы всякий раз подвергаемся опасности в прах рассыпаться, разойтись в мелкие части, в детали, в поиск неверных подробностей, обозначений, в установление ложных связей... В самом деле: разумно ли из неизмеримого множества явлений, событий и величин выбрать два и утверждать, что они связаны между собой, и одна из другой происходит, а всего остального как будто и нет вовсе? Нет! Это не нужно нам. Мы просто устраиваем наш праздник в честь всех маленьких незаметных прожитых нами - каждым из нас - радостей, не обозначая и не называя их. Вот и получается, будто праздник наш происходит безо всякого повода...
Оратор закончил, и веселье пошло своим ходом. Сказанная речь живо тронула умы и сердца, живо отозвалась звоном рюмок и вилок. Общий разговор за столом был оживлен, весел, смел - то отчаянно головокружительно высок, то совершенно пустословен. Наш новообращенный, проработав целый день в архиве и украв там альбом с рисунками и фотографиями, сидел за столом и радовался вместе со всеми. Милая соседка тронула его за рукав. Широко раскрыв свои прекрасные, совсем немного рыбьи глаза, жадно и радостно отражая очками большую половину застолья, она стала ему что-то такое говорить, о чем-то спрашивать. Спрашивала, нравится ли ему… Что нравится ли ему, он никак не мог понять, похоже она спрашивала, нравится ли ему вообще жить на свете. Он, поскольку не вполне понимал вопрос, отвечал неопределенно, скорей положительно, чем отрицательно. Некоторое время спустя, должно быть от переутомления и резкой смены впечатлений, бессмысленные слова, бывшие в его голове, стали двигаться, оживать, заявлять о своем существовании. Ему показалось, что он вот-вот заговорит словами архивных бумаг. Там, в архиве он, вскользь глянув, переворачивал их и откладывал в сторону, но, оказывается, он их все запомнил. Всё, до последней запятой запечатлелось в его мозгу.
Это было удивительно и немного страшно. Ведь за день он успел увидеть, может быть, несколько миллионов знаков. И вот оказывается, что он не может расстаться с ними. Он уже не может, не умеет забыть ничего из прочитанного. Что ж это, так и останется навсегда? Хочет он или не хочет, это будет вспоминаться и вставать плотиной на пути общей проточности и сквознячности жизни. И, если какой-нибудь кусочек забыть, вспомнить только до половины, память будет независимо от его воли искать в себе недостающую часть, мучительно стараться воспроизвести целиком какую-нибудь научно-хозяйственную или коммунально-бытовую формулировку. Вот, оказывается, чем страшен архив! Мы, оказывается, невольники, всего, что знаем! … А вокруг веселились, говорили, смеялись. Девушки, та, что снилась ему позапрошлой ночью, и другая - общая любимица секретарша Машенька смотрели на него и ждали, что он скажет, смеялись и теребили его. Что ж мне сказать?.. Мне нечего… Ах, да! Он хлопнул себя по лбу. Вот и выход. Буду пересказывать им все по порядку, и тогда это, может быть, выйдет из меня, выльется, как из ведра вода. Останутся только архивные полки, лампы, папки и пыль, которых я не смогу рассказать. Он стал говорить. Слова шли толпой, задевая и подталкивая друг друга: ".... выписка из протокола собрания от ... года №... ... согласно постановлению №... от ...... Перечень недовыполненных работ трестом ... по проекту ... Характеристика на ... копия нарсуду... себя проявил с положительной и отрицательной стороны… причем, с положительной более, чем с отрицательной..." Девушки слушали его, широко открыв глаза и радостно. Им, кажется, нравилось, что он говорил, они различали в этом какой-то смысл и значение. - Еще, еще, - хотели они хором. Ну, что ж - пожалуйста...
" ... слушали... в связи с низкостью температуры старший инженер Сидорова ставила вопрос о необходимости установи термометра внутри помещения... постановили... вопрос о приобретении и установке термометра будет очевидно решен положительно... об установке дренажа перед въездом ... чтоб не загрязнять территорию необходимо продумать устройство дренажа ... расширить имеющуюся канаву... очистить сток... высказано предложение о необходимости замены трубы... так как прочистить на месте существующую затруднительно... в дальнейшем вопрос этот будет подниматься в институте... о выполнении решений предыдущих совещаний... в феврале необходимо уплатить членские взносы по НТО ... обязать присутствовать на всех совещаниях... не всегда старшие инженеры перевешивают табельный номер по приходе и уходе с работы... а на деле получается так ... после покраски забывают восстановить надписи... по-прежнему имеют место случаи... когда служебный телефон используется для личных разговоров..." В эту относительно членораздельную речь вклинивался иногда цифровой код, всегда один, что бы он мог значить? - "11, 3, 8 с половиной, 11, 3, 8 с половиной..." - Все прояснил вдруг выплывший заголовок: "Табель учета рабочего времени по сквозному графику... Числа месяца, фамилия, инициалы, табельный номер..." А цифры - суть отработанные часы. "В - выходной. Б - болезнь, О - отпуск, УО - учебный отпуск, ОЖ - отпуск женщине..." За служебными откровениями последовали, очевидно, личные, еще более загадочные: "Понедельник - подарок, Вторник - любовь, Среда - беспокойство, Четверг - неожиданность, Пятница - тоска и слезы, Суббота - к письму, Воскресенье - исполнение желаний...
Пока он говорил, голос его крепчал, становился ясней, выразительней, а когда устал говорить и остановился, то, не в силах сдержать восторга, обнял и расцеловал обеих девушек в охотно подставленные щеки. - О! Я еще много могу прочитать и запомнить: "- Вы знаете, что такое архив? Это очень просто. На полках дела, в делах бумаги, в бумагах ошибки..."
"... Сочинение: Кто-то один из нас смущенно пасет корову..."
Громко и радостно захлопав в ладоши, председатель-начальник призвал веселящихся к тишине: - Ну-с... Еще скажу... - он, казалось, с трудом сдерживал веселое возбуждение, и слова, в которых он собирался выразить новое радостное сообщение, готовы были сами хлынуть наружу. - Ну-с... вот... значит, кто еще хочет говорить умно или вообще говорить? Пожалуйста. Мы ждем. Мы готовы... Мы, конечно, всегда готовы слушать каждого, но если кто-нибудь что-то хочет нам всем сказать, пусть он лучше скажет сейчас, потому что мы перейдем к следующей части нашей программы - мы будем танцевать и петь, и слова тогда, может быть, будут звучать уже не так выразительно. Итак - кто желает? Не стесняйтесь, пожалуйста. Желающих не находилось. Наш неофит смотрел на начальника широко открытыми глазами, и, казалось, так с открытыми глазами заснул, или задремал, или забылся. Девушки подталкивали его с обеих сторон: Что же ты? Тогда он неожиданно встал и начал говорить. Он не понимал, что он говорит. Слова произносились сами, помимо его воли. Где он мог прочитать такое? -
"Есть два колеса. Большое и Маленькое. Бесконечность, возможно, в том и состоит, что Маленькое становится большим, а Большое - уменьшается. Итак, машина времени на двух неодинаковой величины колесах. Зло - болезнь, кризис, катаклизм, происходит, когда большое устает превращаться в Маленькое, а маленькое пугается быть Большим... И в большой правде прячется маленькая ложь, а из маленькой лжи вырастает слишком большая правда. - Не так легко и безболезненно происходит и нормальное вращение, превращение колес. Но все катится на разной величины колесах. Это и устройство реле, и два круга кровообращения. Так и наше зрение распадается на два плана - ближний и дальний - мы не можем одновременно видеть достаточно подробно и достаточно далеко. Может быть, и вся двойственность в этом... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... - в этой последовательности есть что-то невнятное и роковое... "
«А вот, если угодно, Кибернетика...»
…Речь его продолжалась, но с каждым шагом в ней оставалось все меньше смысла. Стало даже не по себе - что если весь смысл вдруг кончится, и все вдруг прекратится - и праздник, и цветы на столе, и девушки по бокам? Тем не менее, он продолжал: "... Куда-то неслышно летят - остатки вороньего крика... А как звать тебя? - Власом ... А кой тебе годик?.. Имя... Имя ему было... Втиснулось и отчество... Все в нем самом... Имя - ярлык на бумажной веревочке? Веревочка, которой привязан ярлык? Ценник с размытыми цифрами? Тайна? Знак силы? Флаг, под которым плывет каждая утлая лодка?... " Теряя силы, он выдохнул последние слова: ЕСТЬ СПАСЕНЬЕ В СПАСАНЬЕ. - И беспомощно опустился на стул. Все.
И неожиданно жизнь, по крайней мере, ее теперешняя минута, ярко высветилась неизвестно откуда идущим светом. Страх оказался нестрашен. Больше того - утешителен. Страх выделил многообразие мира: боюсь - но могу и не бояться, отбросить страх, и будет, как распахнутая дверь, как завеса снятая... Если б его спросили его жизненную позицию, он обозначил бы ее канцелярской аббревиатурой - И.Т.Д... Все было легко и ясно, и продолжало проясняться. Ясности не было конца. Он даже еще хотел сказать, что кроме этого, известного нам мира есть и еще какой-то - шарообразный, но не смог - вокруг бушевали: девушки целовали его с обеих сторон, начальник прибежал пожать руку, сказал, что ни разу еще праздник не происходил с таким блеском...
Потом танцевали. Сдвинули к стене бастионы столов и на освобожденной площади закружились. Начали чинно, парами. Пол был плох, неровен, доски играли под ногами танцующих. Большой блестящий магнитофон в углу гипнотически вращал черными глазами-катушками. Было торжественно, как на самых первых в жизни танцах где-то в конце неполной средней школы. Дальше пошло непринужденно и живо. Танцевали, кто как хотел, и кто как мог, беспорядочно. Кто-то напоминал в танце дракона, кто-то змею, кто-то птицу, кто-то тигра - всех земных, морских и воздушных тварей. - Устала! Его прекрасная партнерша, маленькая серая очкастая птица, то ли рыба, то ли дрессированная мышь, то ли серая зимняя белка - повисла у него на руке. Вес ее не был ни труден, ни неприятен. Сегодня она ему нравилась. - Хочешь отдохнуть? - Нет. Хорошо. Только немного душно... Дружно, как дети, взявшись за руки, они ушли пустыми темными коридорами. Когда проходили окна, светящиеся белыми фонарями, их собственные тени шарахались у них из-под ног, как кошки. Шум праздника, оставленного позади, уменьшался и разматывался, как брошенный катиться клубок, и скоро остался далек, тих и легок. Они пришли в его комнату, где у него был стол, стул, шкаф с бумагами и несгораемый шкаф. Он раскрыл окно, но тяжелый мокрый вечер дохнул на них таким мраком, что пришлось закрыть. Он, как в танце, взял ее за плечи, и так они стояли в темноте молча и непонятно. Головой она упала ему на грудь, и он испугался: ему показалось, что она собирается заплакать. Но она не плакала. Наоборот. Она терлась об него головой, как кошка о мебель. Он стал извлекать ее из одежды, как запутавшуюся птицу выпускать на волю. - Я не слишком красивая? - Что ты! Почему?.. Ты только на первый взгляд можешь показаться некрасивой, потому что в тебе нет этой общей неживой живости и холодности общих мест. - Смотри, - она отстранилась, нашла выключатель, зажгла свет, и при свете он с удивлением прочитал на ее животе свое собственное имя. ... Кожа ее была бледна, руки худы, ключицы остры и т. Д ... И вся она была разрисована листьями и цветами: красными и синими розами. Он подумал - татуировка - нет, оказалась простая краска... Но там, среди цветов и листьев он прочее свое имя: ВАСЯ - Зачем ты? - Не знаю... Так. Я думала, ты будешь рад... Она выгнула спину, линии букв на животе вытянулись красиво и прямо. Она повернулась и погасила свет... - Ой! - она закричала, как от ожога. - Что ты? Что с тобой? - Холодно... Там... Оказалось, в темноте она была прижата спиной к холодному металлу сейфа. Пока они оба смеялись, он нечаянно вспомнил, что было в сейфе: пачка грамот для победителей в соревновании, переходящий вымпел, который никому еще не успели вручить, деньги общественной кассы - три рубля двадцать три копейки, ведомость членских взносов, по которой платили нерегулярно... Еще был штамп в железной коробке с чернильной подушкой, секретный план объекта с привязками и бутылка коньяка, купленная по какому-то случаю и забытая...
Праздничный зал, когда они туда вернулись, был тих, пуст, все почти разошлись, оставшиеся разговаривали негромко. Близилось утро.
Его, Васю, почему-то опять поздравляли. Он рассеянно благодарил. Они еще немного остались - помочь убрать остатки пиршества со столов, чтоб подготовить их к новой рабочей неделе. Развалины праздника не были, как это обычно бывает, унылы и отвратительны. Цветы еще не завяли. Только поблекли. Все пошли по домам отдыхать. Вася проводил свою даму до дома. Оказывается, ее с нетерпением ждала мама.
… Он спал недолго и, проснувшись, плохо понимал происходившее и произошедшее, все смешалось в какой-то шар или слилось, как спицы быстро крутящегося колеса. Он нашел бумажку с телефоном девушки из архива и вспомнил, что должен ей позвонить - поблагодарить и извиниться.
Он прошел по комнате, пустой. Никого не было. И во всей квартире никого. Соседи, несмотря на выходной, куда-то все разошлись. Он поставил чайник и вернулся в комнату. Позвоню немного позже. Он решил еще раз перелистать похищенный им гроссбух. Между фотографией металлургического завода и абстрактным рисунком, подписанным "Этюд № 196" обнаружились какие-то криво исписанные листки. Он стал читать. Сочинение называлось: "Из дневника наблюдательного человека" и открывалось эпиграфом: " - Как живешь? - Да так... Ничего... Жалко все, жалко всех, жалко себя... Из нечаянно подслушанного разговора.
Вверху каждого листа стояло слово " Секретно".
" Утро после ночной смены. Светлые часы необязательности. Краткий отдых на жестком диване. Я записываю кратко, чтоб успеть более записать. Если все описывать - не хватит ни времени, ни бумаги. Серый каменный городской холод. Громада домов кажется все возрастающей - лавинообразно. Лестница. Не очень чистая, не очень уютная, но вполне реальная лестница, которую я пытаюсь ирреально осмыслить. Нет. Написать о простом и происходящем решительно невозможно. Только общее представление дискретности, разорванности, лестницы - неровности ряда серых волн. После бессонной ночи сходство с волнами усиливается. Впрочем, зачем я останавливаюсь. Ну, лестница. Я поднялся по ней и все... Анна. Главное в ее фигуре - спина. Все остальные части только дополняют спину. И когда она поворачивается, чтобы, например, уйти, это кажется совершенно естественным, когда поворачивается лицом - наоборот - странно. Впрочем, у нее милое, простое лицо. Стоит только чуть всмотреться, находишь черты привлекательные. Так, наверно, и с каждым лицом на свете. Анна на службе. Я к ней с поручением. Принес билет и пригласил быть на концерте клубной самодеятельности. Анна приглашается как собкор, и ей предстоит осветить наш предстоящий успех в многотиражной газете. Анна забирает билет, обещает быть, но меня долго не отпускает. Мы говорим не о предстоящем концерте, не об искусстве вообще, а о более общих вопросах: о людях, об их привычках, характерах, сущности. Ее почему-то вдруг заинтересовало, что я об этом думаю. Видно, у нее сложилось какое-то свое мнение - и она ищет ему подтверждения, сопоставляя с другими. В трамвае я задремал. Очнулся, выбежал, как укушенный. Улицы кажутся свалившимися на меня. Мне странно видеть спокойные, равнодушные лица прохожих. Почему, проснувшись, я смотрю на все как недавно приехавший. Где я был, когда спал? … Метель. Утки. Их было хорошо видно на фоне сплошной белизны. Они поднялись с реки и кружили над балкой, иногда скрываясь за темными верхушками, старых, темных, будто потерявших дорогу ив. Видел ли я что-нибудь более совершенное, чем утиный полет? В жизни много красивого. Вот и головы рыб не перестают меня удивлять: удивительное, трагическое совершенство формы... А цвет! От лунного серебра до бронзы степей и - как в сон в золото осенних кленов. … Хожу как потерянный. Не могу понять. Сколько ни думаю, сколько ни верчу эту мысль так и сяк, она больше не занимает меня. Но, когда она вдруг пришла мне, я пережил настоящий внутренний взрыв, потрясение. Я почувствовал себя свободным, легким... Ясно помню воздух, который был тогда, свет, широкую улицу, по которой шел, прохожих, на которых вдруг стал смотреть ласково, как на несмышленых детей. Я чувствовал себя открывшим что-то важное и это открытие нес в себе как свет.
Потом я уснул, и все это прошло. Вспомнил о своем "открытии", как о чем-то уже бывшем, приобретенном - будто ко всей массе лишних и ненужных вещей прибавилась еще одна и была растворена в общем списке... Припомнив хорошенько, я нашел свою мысль ничтожной - то есть, в принципе, правильной, но не новой, и никуда не ведущей. В общих чертах это можно изложить так: Имеем зеркало. Видим в нем собственную физиономию, кусок стены с эстампиком, может быть, через окно - кусок двора или неба. Все это мы видим в зеркале благодаря тому, что отражаемые им лучи различимы оком... Но ведь все тела отражают лучи. Пусть избирательно, пусть неполно. И поэтому каждый предмет, кроме абсолютно черного тела является зеркалом, выполненным с разной степенью чистоты. Ведь различны бывают и зеркала. Одно - ясное, чистое, другое, например, полированный поднос - тусклее. Пыльное окно, бегущая река, ваза, чайник - отражая, затуманивают и искажают предмет. И вот весь мир увидел я состоящим из бесконечного множества отражающих свет и друг друга зеркал.
Вот и вся моя идея - кругом зеркала. Отражающие лики солнца, луны, звезд и электрических лампочек. Их отражения в стенах, дверях, кустарнике, травах, деревьях, аквариумах, циферблатах часов, книгах, досках, что стоят в углу, и даже в шляпках гвоздей, которыми прибит к стене плакат "Не проверяй наличие тока руками." Вот и все. Почему это так взволновало меня? Может быть потому, что я верю: кто-то обладает лучшим зрением, он посмотрит и увидит не только меня или тебя, но и все, что на мне, на тебе так неожиданно и причудливо отражается... А, может быть, потому, что немного нам и нужно, чтоб вызвать волнение и чувство радости... Главное, чтобы эта радость была, а уловить ее можно и в сеть не очень искусно и хитро сплетенную..."
На этом записки обрывались. Вася отложил рукопись. День бился, рвался, терялся сам в себе и бушевал за окнами. День доносил до Васиного слуха свои уверенные разнообразные звуки: слабые трели птиц, шаги, голоса, хлопанье дверью, треск вдали какой-то землеройной машины, визг циркулярной пилы ... Прекрасные черты архивистки встали перед его глазами так ясно, будто она была перед ним. Он подошел к телефону. Набрал номер, слушал гудки, ждал, кто возьмет трубку.
Так и вы ждите. Живите, любите, работайте.
|
 Ингвар Коротков. "А вы пишите, пишите..." (о Книжном салоне "Русской литературы" в Париже) СЕРГЕЙ ФЕДЯКИН. "ОТ МУДРОСТИ – К ЮНОСТИ" (ИГОРЬ ЧИННОВ) «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова в Луганске Павел Банников. Преодоление отчуждения (о "казахской русской поэзии") Прощание с писателем Олесем Бузиной. Билет в бессмертие... Комментариев: 4 НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "СЕБЯ Я ЧУВСТВОВАЛ ПОЭТОМ..." МИХАИЛ КОВСАН. "ЧТО В ИМЕНИ..." ЕВГЕНИЙ ИМИШ. "БАЛЕТ. МЕЧЕТЬ. ВЕРА ИВАНОВНА" СЕРГЕЙ ФОМИН. "АПОЛОГИЯ ДЕРЖИМОРДЫ..." НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "ПОСЛАНИЯ" Владимир Спектор. "День с Михаилом Жванецким в Луганске" "Тутовое дерево, король Лир и кот Фил..." Памяти Армена Джигарханяна. Наталья Баева. "Прощай, Эхнатон!" Объявлен лонг-лист международной литературной премии «Антоновка. 40+» Николай Антропов. Театрализованный концерт «Гранд-Каньон» "МЕЖДУ ЖИВОПИСЬЮ И МУЗЫКОЙ". "Кристаллы" Чюрлёниса ФАТУМ "ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ". К 140-летию музыковеда Леонида Сабанеева "Я УМРУ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ..." К 50-летию со дня смерти Николая Рубцова «ФИЛОСОФСКИЕ ТЕТРАДИ» И ЗАГАДКИ ЧЕРНОВИКА (Ленинские «нотабены») "ИЗ НАРИСОВАННОГО ОСТРОВА...." (К 170-летию Роберта Луиса Стивенсона) «Атака - молчаливое дело». К 95-летию Леонида Аринштейна Александр Евсюков: "Прием заявок первого сезона премии "Антоновка 40+" завершен" Гран-При фестиваля "Чеховская осень-2017" присужден донецкой поэтессе Анне Ревякиной Валентин Курбатов о Валентине Распутине: "Люди бежали к нему, как к собственному сердцу" Комментариев: 1 Эскиз на мамином пианино. Беседа с художником Еленой Юшиной Комментариев: 2 "ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ..." ВАЛЕРИЙ АВДЕЕВ ТАТЬЯНА ПАРСАНОВА. "КОГДА ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО" ОКСАНА СИЛАЕВА. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ Сергей Уткин. "Повернувшийся к памяти" (многословие о шарьинском поэте Викторе Смирнове) Александр Балтин. "Два двухсотлетия: Достоевский и Некрасов" "Идеи, в слово облеченные..." Памяти Валентина Курбатова "РУССКИЙ ХРИСТОС ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА". К 80-летию со дня рождения поэта "КАК АНГЕЛА РАСПЕЧАТЛЕТЬ..." К 190-летию со дня рождения Николая Лескова |




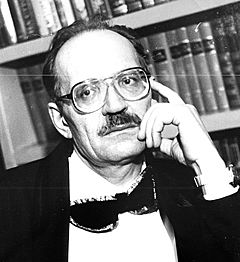

.jpg)


