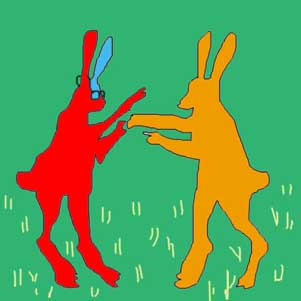 Современная критика, за редкими исключениями, способна вызвать у читателя только чувство глухого раздражения. Позиция рецензента сплошь и рядом преподносится как безусловная данность. Информация о литературном явлении предстает в урезанном либо искаженном виде. Пренебрежение логикой творчества исключает концептуальное освоение литературного процесса. Сегодня, когда корпоративная этика делает торжество посредственности знамением времени, даже публичная порка едва ли способна выправить ситуацию. Остается только фыркать.
Современная критика, за редкими исключениями, способна вызвать у читателя только чувство глухого раздражения. Позиция рецензента сплошь и рядом преподносится как безусловная данность. Информация о литературном явлении предстает в урезанном либо искаженном виде. Пренебрежение логикой творчества исключает концептуальное освоение литературного процесса. Сегодня, когда корпоративная этика делает торжество посредственности знамением времени, даже публичная порка едва ли способна выправить ситуацию. Остается только фыркать.
Что, в сущности говоря, мы имеем в сегодняшней критике? Утрату контакта с реальностью, вызванную консервацией идеологических позиций. «Не то» в постановке проблемы, в содержании аргументов, в выводах никого уже не удивляет. Как следствие, из критики исчезает и продуктивный диалог – остается праздное сотрясение воздуха, в котором главенствует чистая состязательность. Литературное поле расползается, и критика не только не препятствует процессу, но стимулирует его.
Не сказать, чтобы такая ситуация была уникальна. Борьба разных концепций развития литературы имела место всегда. Но у дня сегодняшнего есть свои нюансы. Ныне утрачивается сама почва для дискуссии. Исчезает общий язык. Противостояние разных взглядов принимает характер затяжной окопной войны, в которой побеждает тот, кто пересидит противника. Из критики выветривается литературная злость, позиция заменяется точкой зрения. Абсолютизация субъективности закономерным образом приводит к переизбытку общих мест и поверхностных суждений.
Что делать? Гвоздить критиков налево и направо, одновременно утыкая их в филологический язык как единственно возможное эсперанто. Филологизм, правда, есть некий жупел современной критики, но только с ним и может еще связываться представление об эстетической совести. Ответственное и рациональное суждение должно быть на чем-то основано. Понятие вкуса для этого не подходит. В ориентации на него мы обречены вечно топтаться в ценностном тупике. Если для осознания этой очевидной мысли требуется литературная провокация, на нее следует пойти.
Наиболее остро кризис оценки проявляет себя в критике, посвященной поэзии. Здесь литературная ситуация характеризуется сменой базовых представлений о пределах художественности. Поэзия провоцирует критику, побуждая переосмыслить унаследованные от традиции основания оценочного суждения. Сделать это оказывается крайне сложно, поскольку культура саморефлексии в критике во многом утрачена. В то время как все предшествующее столетие было посвящено борьбе со стереотипами мышления, сегодня сомнительная опора на здравый смысл едва ли не повсеместна.
Есть нечто вульгарное в озвучивании очевидных истин. И тем не менее для того, чтобы опереться хоть на какую-то твердую почву, замечу, что любое критическое высказывание всегда запаздывает. Художественная реальность никогда не может быть определена «готовыми» словами. Никакой читательский опыт, сколь бы широк он ни был, никакое владение контекстом, как бы далеко оно ни простиралось, не могут быть признаны достаточными. В сегодняшней литературной ситуации, ситуации «чистого листа», когда что является, а что не является поэзией, всякий раз нужно решать заново, это особенно важно осознавать.
От критики в таком контексте требуется видоизменение формата. «Упакованные» в критическом суждении предпосылки нужно развернуть. То, что обычно составляет фон разговора, должно быть непосредственно в него вплетено. Это не литературные мечтания, это условие сохранения за критикой хотя бы толики авторитета. Иначе – литературный журнализм, грибыши, огнецы, «последствия» и смотрящая в спину кысь.
Всякая критическая оценка предполагает, в силу единства филологического и публицистического начала, две системы координат. С одной стороны, текст рассматривается с позиций литературности (художественного совершенства). Критик оценивает его сделанность, меру творческой удачи автора и т.п. С другой стороны, текст оценивается с позиций актуальности (общественной значимости). В этом случае осмыслению подлежат жизненность и острота проблем, накал авторского переживания и т.п. В дискуссионном порядке обозначу свои – основанные на скептицизме и эстетизме – критерии высокой значимости текста.
Но прежде – две оговорки. Оговорка для противников формализма: всякая абстракция имеет смысл и значение как форма закрепления понимания, как ориентир. Критик, избегающий абстракций, избегает мышления. Оговорка для противников аналитизма: всякая истина предполагает выход за рамки непосредственности. Критик, не видящий структуры явления, не видит вообще ничего.
Как отличить литературный текст от графоманского? Разрыв между читательскими ожиданиями и интересами пишущих делает этот вопрос, возможно, наиболее принципиальным для сегодняшней критики. Первый из критериев оценки текста есть критерий художественности. Этот термин сегодня практически не используется. Между тем ясно, что, как бы схоластически он ни выглядел, только он и может быть основанием для разговора по существу. В противном случае мы будем иметь либо стремление рецензента убедить себя и других, что заведомо «невкусный» текст «аппетитен», либо отвержение любого нового художественного феномена как надуманного.
В одном из наиболее устоявшихся определений художественность трактуется как «комплекс свойств, определяющих принадлежность плодов творческого труда к сфере искусства»[1]. При этом указывается, что художественность соотносима с «моментом завершенности и осуществленности, адекватной воплощенности творческого замысла, чувственной законченности». Поскольку «завершенность и осуществленность» допускают возможность спекуляций, сошлюсь на схожее определение, где появляется более строгий и уже вполне освоенный термин – «системность». «Форма не может быть хорошей или плохой. Она или есть, или ее нет, потому что ее надо каждый раз заново создавать. Форма – это понятие системы»[2].Скажут: системность – такая же фикция критического языка, как и цельность текста. Любой текст при желании можно выдать за обладающий качеством системности. На это я отвечу следующее. Да, для гуманитарного знания соотнесение концепции и материала всегда было проблемой. Сколько ни доказывай очевидное, всегда найдутся те, кого никакими доказательствами не проймешь. Но есть естественные пределы произвольной интерпретации. Каждого художника следует судить по законам, им самим над собой признанным. Так вот, если правила игры применяются непоследовательно, если они меняются в ее ходе, если отрицаются правила как таковые, мы не имеем дела с художественным высказыванием.
Спорных литературных репутаций сегодня сколько угодно. Произвольно беру имя – Александр Анашевич. Для кого-то это «ворожей», разрушающий классификацию слов, для кого-то – образчик «вязкого и безразмерного бормотанья». В моем восприятии это небезынтересный автор, страдающий хроническим параличом авторской воли. Художественная удача здесь существует исключительно на уровне поэтической строки. Нет тесноты стихового ряда: слишком много слов и слишком мало экспрессии. Смысловой слом высказывания немотивирован в каждом первом тексте. Слово рыхлое, с выветрившейся семантикой. Художественно значимой поэзию такого рода можно признать, только если согласиться, что настоящая лирика – это лирика обрывков, почеркушек, «крысиных хвостов».
Из чего я исхожу, давая такую оценку? Из допущения, что текст состоялся как художественное высказывание, из стремления вслушаться в поэтическую речь. Увы, доверие текстом не оправдывается, системного качества в нем нет. Поскольку этот вывод соотносится не с априорным знанием, что такое стихи, а с попыткой почерпнуть это знание из контекста, есть основания думать, что он не вполне тенденциозен. Возможно, если бы недавняя дискуссия о «новейшей поэзии» велась в такой системе координат, у заинтересованного читателя не было бы сегодня соблазна «призывать чуму на оба дома».
Для того чтобы отличить художественный текст от графоманского, необходима ссылка на системность формы. Однако на что следует ссылаться, оценивая успех или неуспех текста, принадлежность которого к литературе очевидна? Здесь появляется еще один критерий оценки – расширение художественного видения.
Обсуждение художественных достоинств текста немыслимо без разговора о динамике художественного восприятия, «способа изображения как такового»[3].Поскольку общепринятой методики анализа литературного образа нет, понятие видения можно толковать вкривь и вкось. В моем понимании речь идет о системе принципов отбора и упорядочения непосредственных впечатлений. Всякий чув-ственный опыт в искусстве структурирован определенным образом. «Слово – даритель присутствования, т.е. бытия, в котором нечто является как существующее»[4].Видение с этой точки зрения есть характеризующая авторскую индивидуальность способность различать определенный тип чувственных связей.
Всякая абстракция плохо отпечатывается в сознании. Первичной формой ее усвоения оказывается вульгаризация. Сегодня говорят не о расширении видения, а о расширении чувственного опыта. Является писатель и открывает нам тайны русского гламура (вариант: подноготную городских трущоб). Новое видение тайн не открывает. Оно обращает к тому, что всегда было перед глазами, но не могло быть воспринято без оптики искусства. Сфумато было открыто Леонардо, контрастная светотень – Караваджо, игра сфокусированностью образа, насыщенностью цвета, световыми бликами – Вермеером. Поэтический образ отличается не меньшей индивидуализированностью.
Анализ художественного видения позволяет оценить эволюцию писателя. Сказать, имеет ли место следующий шаг. Это особенно важно тогда, когда интересы художника не совпадают с набором существующих ожиданий. Возьмем в качестве примера рецепцию последних книг Алексея Цветкова. С одной стороны – восхищение «юмором стиля», «иносказанием, полным чудесных языковых кунштюков», с другой – обвинение в том, что стихи поэта сплошь строятся на «необязательном, излишнем слове». А между тем Алексей Цветков – едва ли не самый яркий сегодня поэт надрыва. Его око – воспаленное, галлюцинирующее око – способно увидеть лишь истаивание, рассеивание бытия. Сквозь фильтр видения проходит только чувство неостановимо нарастающего катастрофизма. Поэт и бездна вглядываются друг в друга. Учитывая бескопромиссность раннего творчества Цветкова, едва ли приходится удивляться антагонистическому несовпадению с миром его сегодняшнего героя.
Чем обсуждение такого рода вещей, внешне совершенно формальных, может быть значимо для критики? Тем, что возвращает к мысли о бытийственности слова. Поэтическое слово – это слово, вобравшее в себя реальность, «пожравшее вещи». Это уже не знак, но бытие. Именно в качестве живой модели опыта оно может менять сознание. Но тогда нужен хоть какой-нибудь, пусть совсем завалящий термин для разговора о таком качестве слова. Осмысление художественного видения значимо тем, что позволяет противопоставлять литературность и литературу.
Итак, если принадлежность текста к литературе определяется системностью формы; если его художественная значимость соотносится с заявкой на новое видение, то чем определяется авторитетность высказывания? Ведь очевидно, что текст не существует в реальности, отгороженной от всех иных сфер бытия. Есть еще один собственно художественный критерий оценки текста – мера авторской ответственности. Он уже наполовину этический, но определяет именно художественный строй, принципы соотнесения в тексте авторского сознания, высказывания и реальности. Это, если угодно, этика отношения к созданному, этика формы.
Сегодня как никогда значима мысль, что «искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне одним, в единстве моей ответственности»[5]. В этом случае текст оценивается с точки зрения того, готов ли его автор перевести эстетический опыт в плоскость поступка. Здесь можно наметить несколько граней идеи: нацеленность на освоение экзистенциально значимого, стремление воплотить в тексте незаместимый духовный опыт, готовность связать со словом личностное бытие. «Мнимая необходимость для художника быть только художником»[6] ныне окончательно скомпрометирована. Очевидно, ориентиры должны быть изменены.
В современной критике обсуждение критериев оценки текста изобилует ложными альтернативами. Одни утверждают идею служения тексту и «кайфования от образцовой безответственности», другие – идею моральной ценности как высшего мерила, вне которого текст «обезличен и бездушен». Думается мне, речь должна идти о другом. Прежде чем выносить скоропалительные этические оценки или защищать аморализм творца, нужно по крайней мере выяснить, а есть ли ему что сказать.
Это вопрос отнюдь не праздный. Многоговорение новейшей литературы убеждает в недостатке личностных истин. Поверхностность, необязательность высказывания, равнодушие к экзистенциальному плану бытия значительную часть современной словесности делает заурядной интеллектуальной пеной. В лирике свидетельством тому является недостаток узнаваемых героев. Голоса сливаются в общем лирическом щебете. Отмечаемое в последнее время разрастание вширь поэтического пространства характерным образом не сопровождается ростом числа резко очерченных индивидуальностей.
В таком контексте любое, самое спорное проявление артистизма уже благо. Намеренно выбираю крайний случай – лирику Дмитрия Воденникова. Этот «фокусник в стиле унисекс», провоцирующий «раздражение, переходящее в ненависть», есть, я полагаю, поэт ответственный. Не образец ответственности, конечно, но образчик. Характерный для своего времени. Предмет его интереса – разрывы между интимным и социальным бытием. Он пытается стянуть лирическое «я» в некое целое, обозначая инфантильность, демонизм, провокационность как проявления до- или надличностного. В этом смысле можно сказать, что Воденникова интересует объемная истина о герое. А это признак ответственного мышления. Другое дело, что поэт ответственно избирает игру. Но это уже отдельная тема.
Художественность как предмет разговора, при всей обобщенности понятия, допускает возможность согласия. Филологический компонент критики обладает некоторой теоретической обеспеченностью. О публицистическом компоненте этого не скажешь. В чем состоит актуальность текста, необходимо всякий раз определять заново. Ссылки на классиков здесь проблематичны. Остается рассуждать на свой страх и риск.
Слово «актуальный» применительно к современной поэзии приобрело двойственный смысл. Это оценочный эпитет, обозначающий претензии неоавангарда на главенство, и это термин, обозначающий соответствующую страту в литературном процессе. Если вдуматься в смысл слова, можно предложить и менее привязанный к контексту вариант конкретизации значения. Контекст-то меняется. Нет ничего перманентно актуального.
Actualis – деятельный, действенный, настоящий, современный. Это то, что действенно в силу спаянности с запросами времени, то, что воплощает наибольшую полноту разумного бытия (немного гегельянства еще никому не повредило). Актуальная литература – это не литературный мейнстрим, это слово, лишенное поверхностных примет современности, движущееся от быта к бытию. С другой стороны, актуальная литература – это не публицистический лай, это слово философски весомое, интерпретирующее реальность, исходя из чего-то большего, нежели злободневность. В сущности, актуальность текста – это его способность предлагать варианты решения экзистенциальных проблем современного сознания. Если угодно, «социальный заказ» (позволю себе и чуть-чуть вульгарного социологизма). Но заказ не на освещение тех или иных фрагментов реальности, а на отсутствующие смыслы.
Что актуально сегодня? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо сформулировать проблему, решением которой может быть «актуальное». Думаю, не открою истины, если скажу, что исходным для современной лирики является мир фикций и подмен, связанный с симуляцией бытия. Герой, расслоенный на множе-ство ролей и функций, не совпадает ни с одной из них. Событийная насыщенность жизни мучительна для него своей неосмысленностью. Подлинность личностного существования – не данность, а предмет томления. Герой живет урывками, мгновениями, а еще чаще – их ожиданием. Жажда существенности – один из лейтмотивов современной поэзии. Ощущение призрачности существования, ложной идентичности, навязанности желаний – едва ли не самая частая тема. Вытравление из себя лжи, приобретшей видимость бытия, – первостепенная задача и жизненного, и творческого порядка.
Если все сказанное соотносимо с реальностью, в фокус актуальности сегодня попадает цельность, подлинность, новизна переживания. Во избежание поверхностного понимания поясню эту внешне более чем очевидную фразу.
Цельность переживания – отнюдь не данность лирического сознания. Тот факт, что художественная эмоция захватывает всего человека (растворяет его в некоем состоянии), еще не означает, что она всего его затрагивает (обращается к бытийно существенному для него). Цельность переживания – явление экзистенциальное, она чужда поверхностности лирического порыва. Это тот объединяющий душу свет, который делает возможным обладание жизнью, вмещение жизненного хаоса в форму. Цельность – это вовсе не лирическая непосредственность, это метафизическая глубина эмоции. Острое переживание своей конечности, чувство судьбы, если угодно.
По непроверенным слухам, пафос современной поэзии противопоказан. Человеческому бытию отказано в значительности. Но, сколько ни разглагольствуй о смерти автора, вменяемость и ответственность все еще соотносятся с представлением о некоем «я». А значит, в литературе важно не столько впечатление как таковое, сколько впечатление, способное стать частью всеобщего опыта. Насущно только содержательно обеспеченное высказывание. Современная же литература документирует всё и вся. Она перенасыщена дурной субъективностью – поверхностными переживаниями, рефлексивными играми, лирическим суесловием. Поэт сплошь и рядом отсутствует в своем тексте. И уже совсем не важно, мыслит он свое «я» как цельное или расколотое. Текст перестал быть духовным событием. А должен им являться.
Вот, скажем, поэт Андрей Родионов. «Социальный аналитик», «выламывающийся из эстетических норм», «работник городской закулисы» невольно смущает неартикулированностью экспрессии, смутностью и спутанностью переживания. Не перерастая в оценку, текстовая экспрессия преобразуется в движение по поверхности трэш-реальности, делая каждое последующее высказывание нарочито необязательным, как и предыдущее. Текст рассыпается, как и «страшный мир», обнажая хаос социального, культурного, экзистенциального «дна». Создается иллюзия экзистенциальной несущественности текста для самого автора, а потому и читателю вроде бы предлагается лишь «принять его к сведению».
Теперь пару слов о подлинности переживания. Подлинность переживания – это совсем не душевная распахнутость, искренность и т.п. Подлинность, в моем понимании, – это отсутствие дистанции между пережитым и выраженным. Преодоление фатальной лживости слова, подсказывающего поэту ассоциативный ход или стилистическое решение. Преодоление возникает не всегда – в сущности, только тогда, когда лирическое переживание оказывается анонимным. Анонимным не в смысле спрятанности автора за маской, за эпической описательностью, за приглушенностью эмоций. Анонимным в смысле редукции субъективности. Авторское «я» может быть явлено и непосредственно, и опосредованно, с вызовом и без такового. Важно, чтобы в тексте была отражена только та часть его опыта, которая демонстрирует неотделимость точки зрения от способа бытия. Такая полнота авторского присутствия в слове – главное условие доверия к поэтическому голосу сегодня.
Все сказано, и тем не менее нужно вновь и вновь объясняться. Скажут: от поэзии всегда ждут подлинности, естественности голосоведения. На это я отвечу, что есть непосредственность пошлости, и в ней нет ничего подлинного. Есть непосредственность олитературенного высказывания, и в ней нет ничего подлинного. Подлинное – это вовсе не то, что «сошло с души». Это то, что можешь сказать ты и только ты. Это примета высказывания, вне которого поэт может не состояться. Подлинность, таким образом, – характеристика уже не экзистенциального, но личностного присутствия. Она предполагает «снятие» внешних примет субъективности. Хотя, с другой стороны, не означает превращения лирического «я» в голое зрение и осязание.
Сегодня стало принято говорить об «эпичности» новейшей лирики. Откуда бы ей взяться, хотелось бы спросить? Есть глазение и работа холостого воображения – не более того. За единичными исключениями – стихи ни о чем, неизвестно кем написанные. И нечего убеждать читателя, что это, мол, «однозначно не путассу».
С новизной переживания, как нетрудно догадаться, тоже все непросто. Как мне кажется, новое переживание не имеет ничего общего с погоней за экзотическими эмоциями и их эссенциями. Весь этот культ острых ощущений здесь ни при чем. Новое переживание – это такое переживание, в котором мир явлен как иной и другой. В котором надо заново учиться воспринимать реальность, а не переосмыслять какой-то ее фрагмент. Это ускорение сознания, преображение мышления. Эта та безусловная реальность «второго рождения», а значит, и бессмертия, которая нам доступна. Незнаемое, не выводимое из конкретики жизненного опыта.
Новизна – характеристика не количественная, а качественная. Дело не в том, чтобы добраться до какой-нибудь тьмутаракани, прыгнуть с тарзанки, обкуриться анашой и т. п. Обогатить, так сказать, жизненный опыт. Чувственная новизна способна разве что любопытство удовлетворить, но не эстетические потребности. Новизна в обыденном понимании оказывается обычно удручающе пошлой. Есть в ней что-то от неудачного секса. Наша материя иного порядка. Эстетически новое не приплюсовывается к уже имеющемуся опыту, а реорганизует его. Включает уже имеющееся знание о жизни в более широкий контекст с новыми системными связями. А это не есть нечто само собой разумеющееся.
Собственно, новизна – самый редкий из художественных даров. Поэт может обладать безукоризненным чувством слова, своеобразным художественным видением, острым ощущением современности, но не быть новым. Новизна не благоприобретается, но даруется. Один из самых «благодатных» в этом смысле современных поэтов – Елена Шварц. Фантасмагорическое визионерство, инакомерная логика, зыбкость границ реального и воображаемого производят неизгладимое впечатление. Истинно дионисийская, сущностно непредсказуемая художественная манера Елены Шварц и сегодня еще остро нова. Не скажу, что она сама по себе гарантирует художественную удачу. Но она – во всяком случае, при первом знакомстве – переворачивает представления о поэзии. А это есть предельное воплощение новизны. Идеал.
Критики, как известно, делятся на а) тех, кои ложку в ухо несут, б) либеральных, в) состоящих в АРСС, г) нетерпимых к В. Сорокину, д) сотрудничающих с журналом «N», е) премудрых змиев, ж) включенных в справочник «Новейшая русская литература», з) прочих. При таком разбросе трудно так сформулировать выводы, чтобы они были общепонятны. И тем не менее это сделать необходимо. Следовательно, нужно попытаться.
Литературная критика сегодня переживает кризис, связанный с понижением требований к высказыванию. Расцвет субъективизма и эссеизма обесценивает критический текст как таковой, изымает его из диалога читателя и писателя. В этой связи возвращение филологического компонента в критику видится едва ли не единственным условием сохранения ее статуса «четвертого литературного рода». Произвольность критических оценок оплачивается сегодня разрушением единого литературного поля, двусмысленностью литературных репутаций, насыщением литературной жизни псевдособытиями. Только критик-филолог в состоянии вернуть в оборот представление об «эстетической совести», об ответственном, обладающем историко-литературной глубиной, критическом тексте, а тем – способствовать выправлению литературной ситуации.
Для этого необходимо – хотя бы в порядке подтверждения принадлежности к критическому цеху – предъявлять критерии оценки текста. В соответ-ствии с двойственной природой критического высказывания есть основания обозначить два взаимодополнительных набора координат. С одной стороны, должно быть оценено литературное совершенство, с другой – культурологическая значимость текста. Ситуация эстетического хаоса подсказывает, что в первом случае наиболее значимыми будут критерии, отражающие повышенные требования к художественности (системность формы, расширение видения, авторская ответственность). Ощущение симулятивности и призрачности личностного бытия, в свою очередь, делает очевидным, что во втором случае речь должна идти о степенях проявленности духовной свободы (цельности, новизне и подлинности переживания).
Иной взгляд на литературный контекст будет предполагать другие критерии оценки. Автор выражает надежду, что они будут сформулированы и оппоненты обнаружат себя. Самая плохая литературная война лучше самого хорошего литературного мира.
Александр Житенев
.jpg)








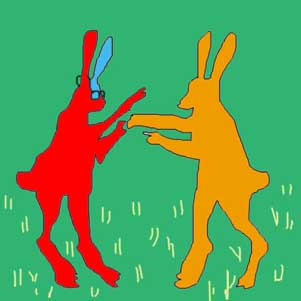 Современная критика, за редкими исключениями, способна вызвать у читателя только чувство глухого раздражения. Позиция рецензента сплошь и рядом преподносится как безусловная данность. Информация о литературном явлении предстает в урезанном либо искаженном виде. Пренебрежение логикой творчества исключает концептуальное освоение литературного процесса. Сегодня, когда корпоративная этика делает торжество посредственности знамением времени, даже публичная порка едва ли способна выправить ситуацию. Остается только фыркать.
Современная критика, за редкими исключениями, способна вызвать у читателя только чувство глухого раздражения. Позиция рецензента сплошь и рядом преподносится как безусловная данность. Информация о литературном явлении предстает в урезанном либо искаженном виде. Пренебрежение логикой творчества исключает концептуальное освоение литературного процесса. Сегодня, когда корпоративная этика делает торжество посредственности знамением времени, даже публичная порка едва ли способна выправить ситуацию. Остается только фыркать.