.jpg) ДМИТРИЙ КАННУНИКОВ. "Толерантность, или ..." СЕРГЕЙ СОБАКИН. ГРИГОРИЙ-"БОГОСЛОВ" СНЕЖАНА ГАЛИМОВА. ТОНКИЙ ШЕЛК ВРЕМЕНИ ИРИНА ДМИТРИЕВСКАЯ. БАБУШКИ И ВНУКИ Комментариев: 2 НАТАША КИНУГАВА."Игрушечный январь" АНФИСА ТРЕТЬЯКОВА. "О РУСЬ, КОМУ ЖЕ ХОРОШО..." Комментариев: 3 АЛЕКСЕЙ ВЕСЕЛОВ. "ВЫРОСЛО ВЕСНОЙ..." МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВА. "И ВСЁ-ТАКИ УСПЕЛИ НА МЕТРО..." ВАЛЕНТИН НЕРВИН. "КОМНАТА СМЕХА..." НИНА ИЩЕНКО. «Русский Лавкрафт» АЛЕКСАНДР БАЛТИН. ПОЭТИКА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ: ПРОГУЛКИ ПО КАЛУГЕ "Необычный путеводитель": Ирина Соляная о книге Александра Евсюкова СЕРГЕЙ УТКИН. "СТИХИ В ОТПЕЧАТКАХ ПРОЗЫ" «Знаки на светлой воде». О поэтической подборке Натальи Баевой в журнале «Москва» СЕРГЕЙ ПАДАЛКИН. ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ. «ЧТО ЗА ПОВЕДЕНИЕ У ЭТОГО ВИДЕНИЯ?» МАРИНА БЕРЕЖНЕВА. "САМОЛЁТИК ВОВКА" НАТА ИГНАТОВА. СТИХИ И ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАТАЛИЯ ВОЛКОВА. "НА ДВЕ МИНУТКИ..." Комментариев: 1 "Летать по небу – лёгкий труд…" (Из сокровищницы поэзии Азербайджана) ПАБЛО САБОРИО. "БАМБУК" (Перевод с английского Сергея Гринева) ЯНА ДЖИН. ANNO DOMINI — ГИБЛЫЕ ДНИ. Перевод Нодара Джин АЛЕНА ПОДОБЕД. «Вольно-невольные» переводы стихотворений Спайка Миллигана Комментариев: 3 ЕЛЕНА САМКОВА. СВЯТАЯ НОЧЬ. Вольные переводы с немецкого Комментариев: 2 |
Просмотров: 1208
07 September 2014 года
Повесть о «новых потерянных» /2/
«...Мальчишки побивают лягушек камнями ради забавы, но лягушки умирают по-настоящему...»
/Плутарх/
«Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...» /И. Бунин, «Окаянные дни»/
I
...Умирает закат Над бездонной водой. Ни о чем не жалейте. Чей-то вздох, чей-то взгляд, Полумрак голубой В опустевших аллеях...
Сначала они придумали только первую строфу. Сочиняли вместе, потому что любили друг друга, а когда любишь, всё получается лучше, чем в остальное время, когда не испытываешь любви. Правда, кто кого испытывает – мы её или она нас – по сей день доподлинно неизвестно. Впрочем, это не так уж и важно, в конце концов. Главное – чтобы была любовь. А она была. Любовь – смертна, если кто-нибудь этого ещё до сих пор не знал. Она умирает по разным причинам – даже от зноя и от самой себя, и процесс порой протекает мучительно. Это – болезнь, которую почему-то никто не спешит лечить. А может, просто нигде не готовят врачей по такой специальности. Однако факт, тем не менее, остаётся фактом – любовь умирает. Хотя случается, что умирают и от неё. Правда, гораздо реже.
...Когда они познакомились, шёл дождь, и на глубоких лужах, затягивающих выбоины в асфальте, лопались мутные круглые пузыри, и почти ничто не напоминало о лете. Ну, разве что только пухлые по сезону дождевые потоки, привычно несущие на коричневых спинах жёлтые палочки от эскимо – стандартный продукт долгого курортного дня. Поэтому искра, проскользнувшая между ними, когда они соприкоснулись локтями в очереди к кафешному прилавку, показалась им совсем неуместной в таких обстоятельствах. И, как впоследствии выяснилось, совершенно напрасно. Кофе, понятное дело, был отвратительный и вполне соответствовал установленной общепитом норме закладки – 18 граммов на ведро. Однако в те времена умные кофейные автоматы не получили ещё столь широкого распространения, как сейчас, и приходилось довольствоваться тем, что предлагали предприимчивые буфетчицы. А предлагали они по преимуществу фантазийный водный раствор овса, цикория и прочих злаков, даже по цвету мало похожий на чёрный густой напиток, который для одних был обязательным атрибутом сладкой капиталистической жизни, а для других – подлинной aqua vitae /3/, без которой никогда по-настоящему не начинался день. Лера и Кир относились ко второй категории, что само по себе уже представлялось определённым базисом для контакта. А за ним абсолютно естественным образом последовали все остальные события.
...Расхожая мифологема о взаимопритяжении полюсов с противоположными знаками в жизни работает не всегда. С другой стороны, в нашем случае – по крайней мере, на первый взгляд – правота её вроде бы подтверждалась. И Кир, и Лера, как уже сказано, любили кофе и совсем ещё недавно были студентами. Но на этом, пожалуй, их сходство заканчивалось – если, конечно, не принимать во внимание, что оба они были молоды, не обременены житейскими обстоятельствами и рассчитывали – каждый по-своему – на неизбежное счастье. И хотя контуры его представлялись им достаточно неотчетливо, оно, разумеется, должно было быть большим. Потому что счастье другим попросту не бывает. Если это, конечно, счастье...
Стоп, стоп. Если и дальше продолжать в том же духе, получится просто банальная история о любви – из тех, что тысячами случаются в приморских городках каждое лето. Но любовь здесь – не более чем пунктир, соединяющий судьбы и разделяющий их, когда приходит срок. Поэтому в данном конкретном случае она – не главное. Хотя и нет в мире ничего более ненадёжного и постоянного, чем эта пунктирная связь...
...В детстве Кира звали иначе – значительней и протяжнее – Кирилл. Но годам к четырнадцати имя, данное ему при рождении, перестало устраивать его дворовых товарищей, каким-то непостижимым образом усвоивших заокеанскую моду на экономию речевых средств. А поскольку прозвище – другое молодёжное поветрие всех времён и народов – к нему как-то не приклеивалось, он так и остался Киром – на всю жизнь. Он вполне мог считаться здешним аборигеном, поскольку вырос в этих местах – в городе по южным меркам значительном и в обыденном смысле не совсем курортном. Что, впрочем, никак не мешало ему с наступлением лета до неприличия раздуваться от обилия отдыхающих, увеличиваясь в размерах, как удав, переоценивший свои пищеварительные способности. ...С родителями Киру, можно сказать, повезло. Отец-ихтиолог, увлеченно изучавший повадки обитателей южных морей в небольшом, но очень полезном для города НИИ, многому научился у объектов своих исследований. Но главное, что он усвоил, вглядываясь в их полную опасностей жизнь, – мудрость выражения «Молчание – золото». Хотя в отношении него острый на язык парижский изгнанник промахнулся – в начальники отец Кира так и не вышел, до самой пенсии склоняясь над своим микроскопом в почётном звании «м.н.с.». Правда, среди первачей, а уж тем более палачей его тоже не оказалось /4/. Может быть, кстати, и потому, что в их скромной квартирке у подножья древней горы с живописными развалинами акрополя /5/ крутилась время от времени магнитофонная катушка и звучали песни, категорически не приветствуемые властями. А поскольку ничто, кроме сумрачного подводного царства, отца, по большому счёту, не интересовало, для воспитания Кира он оказался потерян. Обучив сына азам плавания и ныряния, показав пару приёмов самообороны, необходимых при встрече с хулиганами, и объяснив на практике разницу между вратарём и нападающими, он счёл свою миссию относительно воспитательного процесса исполненной и с лёгким сердцем умыл руки. А может, оно оказалось и к лучшему, что все педагогические хлопоты, так или иначе, легли на мамины плечи. «Красный» университетский диплом мало чем помог ей в смысле выбора рода занятий. Мест в аспирантуре, как водится, хватило лишь для своих, да она, откровенно говоря, не очень туда и стремилась. Предложили, правда, должность методиста на кафедре, но исполнять функции дипломированного «подай-принеси» ей тем более не хотелось. А в силу того, что сидеть «на вольных хлебах» в те времена было никак невозможно, выбирать оказалось не из чего – только школа. Нельзя сказать, что преподавание было её призванием: Корчака, Макаренко и Сухомлинского она по ночам не штудировала, а о Штайнере и Монтессори никто тогда и слыхом не слыхивал /6/. Но учительствовала мама на совесть. На уроках у неё бывало нескучно, и благодарный интерес учеников к английскому, не сопровождающемуся муштрой и занудством, по мере взросления лишь возрастал. От добра, как известно, добра не ищут, и точно таким же подходом она воспользовалась, чтобы привить собственному сыну если уж не любовь, то хотя бы почтение к великому языку экономических теорий и литературных шедевров. И надо сказать, что её усилия не пропали даром: к десятому классу Кир уже довольно прилично болтал на «инглише» и мог при случае объясниться с его носителем не только на уровне «What is your name?» и «How do you do?». Мама любила музыку, уютные викторианские романы, меланхолическую поэзию учительниц и домохозяек /7/ и многое ещё из того, что скрывается за кулисами обыденной жизни и так на неё не похоже. Потом Кир поймёт и оценит её художественные предпочтения и будет ей благодарен – за чайку, убеждённую, что следует начинать с горизонтального полёта, за туманные пустоши, поросшие сиреневым вереском, за незнакомца в ночи, которому так одиноко в людском потоке /8/... Десятилетия, растраченные на спряжение неправильных английских глаголов и раздумья о том, как дотянуть до получки, не одалживаясь у соседей, конечно же, оставили у неё в душе свой разрушительный отпечаток. Но не убили огня, живущего там, как угли под пеплом. И когда мама вдруг надевала джинсы и майку, на которой спереди было написано «You wanna buy us?», а на спине – «But we are not for sale!» /9/, и начинала вполголоса напевать: «Try not to get worried, try not to turn on to…» /10/, в глазах у неё вспыхивало непонятное Киру смятение, и всё вокруг становилось светлым и немного торжественным, как в праздник. Кир понятия не имел, откуда взялась эта майка, и долго не мог себе объяснить, почему мама так ею дорожит. До тех пор, пока, роясь однажды на полках пасмурным днём, не нашёл книгу о событиях, смутивших в своё время немало умов и пошатнувших немало устоев, считавшихся до этого незыблемыми /11/. Он собирался было спросить у мамы, какое она имеет ко всему этому отношение, но погода наладилась и завертелась неумолимая летняя карусель, не располагающая к подобным вопросам. В следующий раз он вспомнит об этом через много лет, в Нью-Йорке, когда увидит идущую ему навстречу по досужим аллеям Сентрал-парка стройную седую француженку в точно такой же майке и с таким же, как у мамы, огнём в глазах. Но расспрашивать будет уже некого...
Мама ушла тихо и незаметно, никого ничем не обременяя – так же, как и жила. То, что Кир не успеет на похороны, было понятно с самого начала. Но он всё равно полетел – первым же подвернувшимся рейсом, через промокший до нитки Франкфурт и заснеженную Москву. Дома было сыро, ветрено и тепло. Растерянный и как-то сразу состарившийся отец привёз его на могилу и долго что-то рассказывал, суетливо смахивая слезу и поправляя спутавшиеся прощальные ленты. Кир слушал его и не слышал, стараясь зачем-то сохранить в памяти страдающий от одышки автобус седьмого маршрута, раздёрганные ветром ноябрьские кусты, вязко липнущую к подошвам жёлтую глину и серые трубы кирпичного завода, за которым начинается новое кладбище, плавно перетекающее в поля... – Как же я теперь-то... один? – спросил дома отец, потерянно уронив руки и снизу вверх заглядывая Киру в глаза. – Что поделаешь... – ответил Кир, едва смирив подступающую к горлу жалость. – Всё устроится как-нибудь. Надо жить... – Да-да, конечно... Я справлюсь, справлюсь... – закивал головой отец, доставая из серванта глухо звякнувшие бокалы. – Помянем... Они выпили, не закусывая, а потом долго сидели, глядя, как плещутся за окном ранние осенние сумерки, – двое мужчин, молча переплывающих общее горе...
...Когда пришло время сакраментального для многих семей вопроса о том, «куда пойти учиться», обсуждать, в общем-то, оказалось нечего. Отец, руководствуясь профессиональными предпочтениями, предложил было какую-то морскую идею, но она тут же получила молчаливое неодобрение остальных – один исследователь глубин в доме уже был, и этого оказалось достаточно. А поскольку Кир проявлял определённые гуманитарные склонности, в очевидности выбора сомневаться не приходилось – филология, журналистика, в крайнем случае, исторический факультет. Как нельзя кстати вспомнились и столичные родственники – не такие близкие, чтобы категорически озаботиться судьбой двоюродного племянника, но и не седьмая вода на киселе, чтобы отказать ему в необходимой поддержке. С журналистикой у родственников не заладилось, с историей – тоже, и Кир, не особенно огорчаясь, поступил на филологический факультет, где сразу же попал в привычное, по преимуществу девичье окружение. Мальчики на юге взрослеют быстро, и Кир в свои семнадцать с половиной уже вполне сносно ориентировался на той стороне жизненной улицы, которую добропорядочные граждане привыкли считать теневой. На самом же деле, её населяет колоритная и очень пёстрая публика. Стареющие альфонсы, короли гостиничного преферанса и сомнительных сделок, никогда не знающие, чем для них закончится день. Позавчерашние валькирии модных курортов с излишне чувственным ртом, обнажающие в улыбке Гуинплена /12/ безукоризненно белые зубы. Столичные барышни second hand, ни при каких обстоятельствах не садящиеся в кафе за один столик с местными девушками... Да мало ли кого ещё можно встретить на скользких от пота и похоти курортных перекрёстках, где властвуют чистоган и ненасытное стремление быть не хуже других... Нельзя, конечно, сказать, что Кир чувствовал себя в этом мире, как рыба в воде, но и чужаком в нём он тоже не выглядел. Особенно когда приезжал на каникулы, и белое незакатное солнце июля, беспощадное к посторонним, нежно гладило его смуглую кожу и дарило ей матовый аттический блеск. А долгими летними вечерами, сладкими и тягучими, как мармелад, едва оперившиеся туземные наяды, гибкие и пахнущие волной, торопливо делились с ним сексуальным опытом, пусть небольшим, но собственным, по крупицам накопленным на пыльных пляжах Анапы и Темрюка, где тоже свои законы, хоть и не такие безжалостные, как на чопорных пятизвёздочных набережных, но всё равно суровые и не оставляющие места для сантиментов. Кир принимал это как должное, как неотъемлемую часть воспитательного процесса, не завершённого в своё время отцом, и интуитивно, по наитию осваивал непростую мужскую науку взаимоотношений с противоположной половиною человечества. Его влекли чувственные и ни к чему не обязывающие игрища, хождения по краю дозволенного и через край, но чего-то ему в этих волнующих кровь приключениях всё-таки недоставало.
«Что она, собственно говоря, такое, эта любовь?» – спрашивал себя время от времени Кир и не находил ответа. Загадочная инфлуэнца, приносимая южным ветром, Мимолётное душевное расстройство, принимающее порой хроническую форму, глобальная катастрофа, грозящая обрушить мир?.. Его товарищам, весёлым ночным охотникам, вместе с которыми он беззаботно транжирил лёгкие летние дни, не было дела до этих раздумий – они просто радовались жизни, впиваясь крепкими молодыми зубами в её сочные соблазнительные плоды. Но Киру этот вопрос, многим вокруг казавшийся как минимум странным, никак не давал покоя.
Подобная странность, вылившаяся со временем в необъяснимую склонность к нетривиальным поступкам, сопровождала его ещё много лет. В студенческие годы, например, вполне обыденным делом было для него написать среди ночи стихотворение, а утром по свежему снегу торопиться на почту, чтобы отправить его кому-нибудь телеграммой. Стоять там, упираясь грудью в высокий барьер, дышать на замёрзшие пальцы и не замечать восхищённого взгляда молоденькой телеграфистки, в первый и в последний раз читающей такое на сером казённом бланке, предназначенном для совершенно других сообщений. Со временем Кир повзрослеет, и эта его непохожесть перестанет так уж откровенно бросаться в глаза. Но что-то в нём всё-таки сохранится, останется навсегда, не растворяясь в привычном течении жизни, и порой он по-прежнему будет делать что-то не так, не очень оглядываясь на то, как воспринимаются его поступки окружающим расчётливым миром, взвешивающим всё подряд на своих ржавых весах целесообразности и здравого смысла.
...Лера была поздним ребёнком, стандартным продуктом столичного неравного брака, последней надеждой для неумолимо стареющего отца и «мёртвым якорем» для взбалмошной, мечтающей о другой жизни матери; дома её боготворили и ненавидели одновременно, и она чувствовала это всеми клеточками разрываемой на две половины души. Отец умирал мучительно долго, раздражаясь по пустякам и презирая себя за немощь и боль. Мать холодно наблюдала за этим сквозь свои виртуальные ширмы, ждала, когда занавес, наконец, опустится, и строила далекоидущие планы, в которых Лере, разумеется, совершенно не было места... Последние месяцы запомнились ей бесконечными визитами почтительных докторов, старательно демонстрирующих оптимизм и благожелательность, тяжёлыми запахами лекарств, расставленных и разложенных по всем полкам и полочкам, и пронзительной тишиной, опустившейся на обезлюдевшую квартиру после того, как всё закончилось и завершилось – безжалостно и навсегда... ...От отца, неплохого художника и очень порядочного человека, Лера унаследовала полутёмную бабушкину «хрущёвку» на Юго-Западе, небольшую, но со вкусом подобранную библиотеку и твёрдую руку рисовальщика, внимательную к деталям и ценящую полутона. Первое, что она сделала после похорон – перевезла в обретённые пыльные владения книги и альбомы, на которые мать, презрительно поджимавшая губы при слове «искусство», слава богу, не претендовала. А потом перебралась туда и сама – опять же с молчаливого согласия матери, искренне считавшей, что достойно исполняет свой родительский долг, раз в месяц передавая Лере пенсию за отца, положенную ей до совершеннолетия. Новая взрослая жизнь не то чтобы сильно воодушевила Леру, но оказалась совсем не страшной. Запросы у неё были достаточно скромными, к шумным столичным увеселениям она особенно не стремилась, и пенсионных денег ей, в общем и целом, хватало. Тем более, что театральные билеты стоили тогда недорого, в музеи и картинные галереи пускали почти бесплатно, а оставшихся от отца художественных принадлежностей достало бы на несколько лет безбедного существования приличной изобразительной студии в каком-нибудь провинциальном дворце пионеров. Ну и, конечно, свобода – пожалуй, впервые Лера по-настоящему ощущала её сладкий и живительный вкус. Прибегая из школы и кое-как разобравшись с домашними заданиями, она усаживалась к любимому бабушкиному окну с видом на Ленинские тогда ещё горы и с головой погружалась в вожделенное царство вымысла и воплощения. Гуашь и темпера, масло и карандаш – всему находилось место в этих волнующих путешествиях. Но фавориткой в любых ситуациях всё-таки оказывалась акварель, и у Леры едва не перехватывало дыхание, когда из незатейливой смеси воды и краски на белом муаре листа возникал зыбкий переменчивый мир, в котором было возможно всё, что угодно... ...За год, отделявший Леру от получения аттестата, отца забыли не все, и она без труда поступила в прославленное училище с «рыбьим» названием /13/. Но после первого же семестра поняла – романтики пыльных подмостков и затхлого запаха старых кулис ей категорически недостаточно для того, чтобы заключить себя пусть в красивые, но всё же театральные рамки. Пришлось ещё раз обратиться к тем, у кого хорошая память, и следующий сентябрь она встретила студенткой другого – не менее знаменитого и тоже «фамильного» – учебного заведения. Нельзя сказать, что её как-то особо прельщали достижения в сфере промышленного дизайна, но «Строгановку» /14/ она худо-бедно закончила, с завидной настойчивостью совмещая свои туманные акварели с малохудожественными устремлениями Ивановского камвольного комбината /15/.
...Учился Кир легко и непринуждённо – во-первых, потому, что едва ли не половину университетской программы они освоили ещё с мамой, а во-вторых – ему нравился сам процесс приобретения знаний, которые тебе по душе и, значит, не только полезны, но и приятны. А поскольку таковых оказалось для него большинство, учёба не была ему в тягость, если, конечно, не считать отдельных предметов вроде старославянского или истграма, традиционно нелюбимых всеми студентами-филологами вплоть до седьмого колена /16/. Парней на филфаке было, как и всегда, раз-два и обчёлся, и если учесть, что в то время среди юных и не очень москвичек бушевало поветрие, всячески принуждающее их к замужеству, в этом состояла известная опасность для Кира. Однако он держался достойно и не позволил себе ничего, кроме лёгких интрижек, никому не подававших ненужных надежд. К тому же, в нём вдруг проснулась дремавшая, видимо, склонность к описанию людей и событий. И хотя слова «журналистика» применительно к своим опытам Кир поначалу старался не употреблять, редакция одной из столичных газет не брезговала его скромными информушками о свежих веяниях в молодёжной среде, а со временем стала поручать и более серьезные задания в виде репортажей о входивших тогда в моду студенческих митингах или интервью с университетским начальством. Не сразу, конечно, но примерно к четвёртому курсу Кира потихоньку стали считать своим в насмешливых редакционных коридорах и он начал подумывать об этой беспокойной профессии как о деле, на которое не жалко потратить жизнь. Журналистом он в итоге так и не стал. Но это студенческое увлечение очень пригодилось ему после окончания университета, когда выяснилось, что бывшей огромной стране совершенно не нужны ни сами филологи, ни их легкомысленная наука, абсолютно бесполезная с точки зрения производства материальных благ. Кир помыкался пару лет, перебиваясь случайными заработками, и не то чтобы растерялся, но плохо себе представлял, что ему делать в этой жизни дальше. И кто знает, как бы всё повернулось, если бы не Сергей, с которым они случайно столкнулись за кулисами какой-то пресс-конференции. Они выросли в одном городе и вроде бы даже пересекались в каких-то компаниях, но Сергей был постарше и раньше отправился на покорение столиц. Теперь он числился, по собственному выражению, «мордоделом» при свежевыпеченном металлургическом бароне, носил туфли из крокодиловой кожи и галстуки по шестьсот долларов за штуку, имел в подчинении стайку шустрых девиц, преданно заглядывающих ему в рот одинаково пустыми глазами, и вообще производил благоприятное впечатление всесторонне преуспевающего человека. Барон, сколотивший своё безразмерное состояние на скупке и перепродаже железорудных руин где-то под Череповцом, искренне считал себя частью мировой сталелитейной элиты и очень боялся конкуренции со стороны остальных её представителей. Поэтому Сергею, старающемуся по старой памяти поддерживать земляков, не составило большого труда убедить патрона в необходимости получать информацию прямо «из логова зверя». Кир соответствовал этой миссии практически со всех точек зрения: молод, но уже с приличным дипломом, прекрасно знает язык и умеет контактировать с собеседниками, которым есть что скрывать. В результате всё сошлось одно к одному, и Кир обрёл свою американскую синекуру, недурно оплачиваемую и не требующую от него каких-то особенных сверхусилий.
Многие почему-то воспринимают южан как людей внутренне расслабленных, без стального нордического стержня, побуждающего к работе и обстоятельности. В чём-то, может быть, такие представления т справедливы. Трёхчасовые послеполуденные сиесты латинского мира, готовность довольствоваться малым, не делая ничего для достижения большего, свойственная благословенным тропическим архипелагам, – всё это, наверное, определяется не только географическими координатами. Но не все люди одинаковы – даже на юге. Кир, унаследовавший от родителей неизбывное влечение к новому и склонность к усидчивости и анализу, поначалу всерьёз тяготился отсутствием чётких обязанностей и всячески пытался отыскать себе дело. Быстро перестав посещать бесполезные сталелитейные саммиты и подобрав надёжных осведомителей в персонале металлургических монстров, он занялся тем, что его действительно интересовало: изучал историю противостояния северных и южных штатов /17/, вникал в узелковые письма инков и астрономические откровения майя, старался найти рациональное зерно в тотемных верованиях гуронов и сиу /18/. Но мало-помалу ему наскучили и эти занятия. География окончательно победила генетику, когда Кир понял, что и здесь, в одержимой потреблением Америке, можно жить, руководствуясь освобождающим от многого принципом сладкого ничегонеделанья – dolce far niente /19/, как сказали бы итальянцы, никогда особенно не усердствующие в стремлении делать то, чего можно не делать или, по крайней мере, перенести на следующий день.
...После академии, устроившись для проформы в какое-то конструкторское бюро, Лера, не озадачиваясь бытовыми проблемами и матримониальными перспективами, весело прожигала жизнь в нешироком кругу институтских друзей, с чьей-то лёгкой столичной руки отнесённых к категории одарённых и подающих надежды. Правда, денег, благоразумно обособленных отцом от поползновений вдовствующей супруги, становилось всё меньше и меньше, но Лера по этому поводу не печалилась. «Будет день – будет и пища» – говорила она себе в редкие минуты материальных сомнений и старалась выстраивать свой «modus vivendi» /20/ в максимальном соответствии с этим бесхитростным постулатом. В такой лёгкой беззаботной бессмыслице пробежала по лужам осень, промчалась на сине-белых санках зима, отзвенели обнадёживающей капелью терпкие весенние месяцы. А потом пришло лето, и Лера познакомилась с Киром.
– Какая всё-таки дрянь, – негромко сказал Кир, с отвращением вдыхая плывущие от чашки овсяные запахи. – Ну, так не пейте, если не нравится, – с холодком взглянув на него через стол, ответила Лера. Она только вчера приехала, чувствовала себя пока не в своей тарелке и ощущала известную настороженность в отношении случайных знакомств. – Другого-то всё равно не наливают... – Кир посмотрел на стекло, по которому извилисто сползали вниз ленивые дождевые капли. – Я живу тут неподалёку. У меня дома «Касике» /21/ есть. Не хотите? – А вы что, местный? – всё так же с прохладцей спросила Лера, подумав про себя, что парень, видно, не промах. – Уж больно вы загорелый для аборигена. У них обычно только руки по локоть да шея вокруг воротника... – В известном смысле да... Точнее, когда-то был местным. А сейчас приехал с родителями повидаться. – Понятно. Выпорхнули, так сказать, из гнезда. И в каких краях теперь обитаете? – Пока в Москве, а дальше видно будет. – Правда? Так мы ещё, ко всему прочему, и земляки. Я тоже из Москвы. – Слышу – по выговору. Москвичек в этом смысле ни с кем не спутать... Так что, зайдём ко мне? Вы вон промокли насквозь. Да и волосы неплохо бы высушить – а то потом их ничем не расчешешь... Лера поколебалась ещё немного и согласилась. – Ну давайте... Про волосы – это вы точно заметили. И делать особо нечего – на пляж не пойдёшь... – Парень на первый взгляд не вызывал у неё опасений. Да и что с ней может случиться – в центре города, среди бела дня. – Меня зовут Лера. А вас? – Кир. – Кирилл, что ли? – Нет. Кирилл – это другое. А я Кир...
По квартире плавал мягкий дождевой полусвет, но было тепло и уютно, как всегда бывает в домах, где живут не безразличные друг другу люди. Кир усадил Леру на диван, а сам выскользнул в кухню, подождал, пока свистнет чайник, и вернулся – вместе с горьковатыми бразильскими ароматами. Лера стояла у книжной полки и что-то листала. – «Пройдёт много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела... – прочла она вслух, и Кир тут же продолжил – ... вспомнит тот далёкий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лёд» /22/. – Любите латиноамериканцев? – спросила Лера. – Да, – ответил Кир, ставя чашки на стол. – И не только их. Здесь вообще нет нелюбимых книг... Ничего лишнего...
... Не первое знакомство, не первая девушка, не первые разговоры за чашкой кофе – всё это было у Кира десятки раз. Но сейчас он чувствовал лёгкую и необъяснимую до конца тревогу, и откуда-то из самых глубин поднималась маленькая тёплая волна – так бывает, когда ждёшь чего-то, что никогда ещё с тобой не случалось. Лера сидела вполоборота к нему, сушила волосы стареньким феном, произносила какие-то необязательные слова, и Кир почти физически ощущал по-кошачьи упругую грацию её тела, едва уловимо отдающего мускусом и близкой опасностью. Он будет помнить об этом всю жизнь.
...К концу недели погода вспомнила о своих обязанностях, и раскалённые дни нехотя покатились по переполненным пляжам. Лера загорала быстро и с удовольствием, и нетронутая солнцем полоска кожи, неосторожно выглядывавшая из-под купальника, казалась Киру ослепительно белой, до рези в глазах. А когда им наскучивали однообразные пляжные развлечения, они уходили за город, к скифским курганам и заброшенным каменоломням, и разговаривали, разговаривали, разговаривали – обо всём, что придёт в голову, торопясь и захлёбываясь от наслаждения, и никак не могли наговориться. Они были влюблены в погоду, в августовские короткие тени, наискосок пересекающие тротуары, в толстую мороженщицу на углу, продававшую им свои покрытые инеем деликатесы; они перебрасывались цитатами, на лету подхватывали друг у друга сравнения, самозабвенно жонглировали чужими метафорами, каждый раз по-новому ощущая их тонкий изысканный вкус, и им казалось, что отныне так будет всегда, что всё это должно длиться теперь целую вечность, а на меньшее они ни в коем случае не согласны...
Вечность – очень относительное понятие, не имеющее никаких достоверных параметров. У бабочки, родившейся на одну ночь, и мамонта, извлечённого из толщи веков и пород, разные вечности. Хотя мотыльку, которому не посчастливилось запечатлеться на янтарных скрижалях, всё равно своя кажется лучше. Ведь он же не знает, сколько всякого и всего смог бы почувствовать и ощутить, проживи он чуть дольше, чем было ему отпущено. Так же, наверное, и любовь – метя свои дни короткими вехами, она хотела бы длиться столетия, не подозревая, что там, в глубине – только камень и мокрая глина, никогда и ничего не сохраняющая из того, что было так дорого и любимо...
...Они странствовали по улицам, как по неизведанному архипелагу, вглядывались в лица домов, сочувствуя трещинам на фасадах, и, не отдавая себе отчёта во времени и пространстве, с благодарностью принимали даруемую им деревьями тень и прохладу. Не зная, куда их выведет следующий маршрут, они без усилий взбегали по каменным лестницам и бесстрашно углублялись в заросшие мальвами переулки, а как-то под вечер забрели в порт, натужно вздыхающий в паузах между погрузками. Им повезло, и они угодили как раз в такую вот паузу. Сидя на тёплом бетоне, они слушали, как струится у ног тёмно-синяя бездна, смотрели, как выплывает из-за дальнего мыса круглое закатное солнце, наклонно соскальзывающее к воде. У ближнего пирса кок собирал команду на ужин, звякая нехитрой морской посудой. На корме давно отработавшего своё сухогруза вахтенный развешивал на верёвке незатейливую матросскую постирушку. И откуда-то издалека, с другой половины мира, плыл над всей этой тихой вечерней жизнью головокружительный мальчишеский голос, выводящий за пределами всяких октав – «Са-а-анта-а Лю-ючи-и-я, Санта-а-а Лючия...» /23/.
Дни сменяли друг друга, как за волной приходит волна, но они не чувствовали однообразия и предпочитали ничего не планировать наперёд. Однажды, гуляя по набережной, кормили чаек хлебными крошками, рассуждали о сюрреалистах и Тристане Тцара /24/ и рассеянно наблюдали, как бело-голубой пароходик готовится к привычному путешествию через пролив. И вдруг ни с того ни с сего решили отправиться на другой берег. Смешавшись со стайкой скучных курортников, не знающих, чем занять долгие праздные дни, молчаливых старух в пёстрых платках, возвращающихся с базара с пустыми корзинам, и жизнерадостных рыболовов, предвкушающих близкое мужское соперничество с Большой рыбой, они отыскали себе местечко на низкой корме, вздрагивающей от усилий натруженных за лето винтов. Круиз оказался непродолжительным, и, проводив глазами недавних попутчиков, деловито и праздно потянувшихся в разные стороны, они постояли на тёмных досках причала, спросили у неприветливой билетёрши о местных достопримечательностях и приласкали собаку, которая тут же увязалась за ними, несмело помахивая хвостом в надежде получить что-нибудь более существенное, чем доброе слово. ...Приземистый беленький городок, опрометчиво выбежавший к самой воде, родина мирных виноградарей и дерзких контрабандистов, по воле насмешливой судьбы угодил в заложники сразу двух беспощадных стихий: сначала время безжалостно укоротило ему название, а затем море метр за метром стало отвоёвывать у него жёлтые глинистые побережья. Городок попытался было сопротивляться, отгораживаясь дамбами и волноломами, но потом осознал бесполезность своих усилий, махнул на это дело рукой и начал потихоньку откатываться в степь, перемешивая на узеньких улочках мускусные ароматы чабреца и полыни с горькими запахами умирающих водорослей /25/. Они походили по рынку, задержались у книжного развала, рассчитанного на невзыскательные курортные вкусы, и подтянутый, не по-южному сосредоточенный пенсионер в застиранной тельняшке и некогда синей панаме продал им пару ненужных книг, тускло отразивших в обложках матовый солнечный блеск. А день всё продолжался и никак не хотел заканчиваться. Перекусив втроём в подвернувшейся чебуречной, где изобретённые детьми Востока то ли блинчики, то ли пирожки важно плавали в кипящем масле, выдувая из тонкого теста золотистые пузыри, они вышли к морю и поняли, что могли бы остаться здесь навсегда. Собака лаяла на подползающую волну, изо всех сил помогая себе хвостом, и лай относило ветром в сторону маяка, над которым нехотя разгорался закат этого бесконечного дня. Кир наклонялся, чтобы поднять приглянувшийся камешек, и у него на зубах стеклянно поскрипывали песчинки. Лера смеялась, запрокидывая голову, и её волосы пряно и солоно пахли летящими брызгами. И всем троим жизнь представлялась лёгкой и необыкновенно красивой, как плывущие над водой облака...
...Это были счастливые дни, вобравшие в себя фосфоресцирующие бездны Рауля Дюфи, безошибочно чёткие фантасмагории Рене Магритта /26/, терпкое рубиновое вино, чуть ли не даром продающееся в лавчонках над пустынными пляжами, и кислые зелёные яблоки, которыми их угощала крохотная словоохотливая старушка, радующаяся неожиданным постояльцам, невесть откуда взявшимся в самом конце сезона...
Время в августе всегда торопится больше обычного, и неделя, которую Лера и Кир прожили на другом берегу, не стала исключением из этого грустного правила. Погода к их отъезду испортилась, море, вчера ещё безмятежное, нахохлилось седыми «барашками», и матрос, отвечающий за посадку и высадку, недовольно поглядывал на излишне медлительных, по его мнению, пассажиров. Пёс, с которым они подружились за эти дни, пришёл их провожать и стоял у кромки воды, поочерёдно поднимая то одно, то другое ухо. Пароходик, взбивая за кормой сероватую пену, нетерпеливо оттолкнулся от пристани и двинулся в направлении осени, подгоняя себя чуть охрипшим гудком. На палубе гулял ветер, было пусто и холодно, и Кир, обняв Леру за плечи, помахал рукой товарищу недолгих забав. Пёс его как будто бы понял, опустил уши и побрёл по своим невесёлым собачьим делам – жизнь продолжалась, несмотря на смену сезонов, и теперь ему самому предстояло заботиться о еде и ночлеге.
...Когда тучи всё ниже плывут над морем, перемешиваясь с гортанными птичьими криками, а ветер становится всё холодней и напористей, всегда почему-то кажется, что лето получилось не таким, как должно было быть, что ему опять не хватило нежности и тепла и ещё чего-то, что коротко называется счастьем. Но ведь бывают в жизни и другие моменты – когда чайки скользят над самой водой, а их крылья подсвечиваются пурпуром и позолотой, и можно безнаказанно дать волю эмоциям. Посидеть в одиночестве, взгрустнуть без последствий над понравившейся строкой, задержаться более чем приличествует за бокалом чего-нибудь экзотического – къянти, просекко, вальполичелло... или как там ещё называют свои напитки никогда не унывающие итальянцы... А главное всё-таки состоит в том, чтобы научиться радоваться каждому плывущему мимо дню, отыскивая в навсегда ускользающих часах и минутах их сокровенные смыслы, делающие нас хоть чуточку, но счастливее. Или несчастнее – это уж как получится. И по возможности безошибочно отличать одно от другого /27/.
___________________________________
/1/ «Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего; несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего», – один из манифестов дадаизма.
/2/ Термин «потерянное поколение» вошёл в западноевропейский литературный оборот в 20-х годах прошлого века. Американка Гертруда Стайн, которой приписывают авторство этой дефиниции, поначалу определяла им группу своих коллег-писателей, издавших после окончания Первой мировой войны пронзительные, трагические романы, исполненные разочарования в современной цивилизации и горечи от разрушенных идеалов, – Э.-М. Ремарка, Р. Олдингтона, Э. Хемингуэя. Но постепенно так стали называть и их героев – людей заблудившихся, неприкаянных, утративших веру в себя и в мир, – потерянных, одним словом. Но это – в Европе и за океаном. У нас же, в России, люди, которых называли в школьной программе «лишними», появились лет примерно на сто раньше – вспомните пушкинского Онегина, или лермонтовского Печорина, или – чуть позже – разночинных изгоев Достоевского. Здесь, однако, речь пойдёт не о них. Российская история ХХ-го века не скупилась на катаклизмы, и каждое прошагавшее по нему поколение смело можно считать потерянным. Бессмысленно мерить, чей крест оказался тяжелее. Поэтому просто обратимся к судьбе двух людей, встретившихся на очередном трагическом переломе в жизни великой страны.
/3/ Составители отечественных сборников крылатых фраз относят (наверное, не без иронии) это латинское выражение к водке. Здесь, однако, имеется в виду его первоначальный смысл – вода жизни.
/4/ Обыгрывается текст песни А. Галича «Старательский вальсок»: «...А молчальники вышли в начальники, Потому что молчание – золото... ...Помолчи – попадёшь в первачи, Помолчи – попадёшь в палачи...» Александр Аркадьевич (Аронович) Галич (настоящая фамилия – Гинзбург) – советский поэт, драматург, киносценарист, автор и исполнитель собственных песен, один из зачинателей бардовского движения. Впоследствии – диссидент. Хотя отечественные острословы и пошучивали: «В СССР диссидентов нет, есть досиденты и отсиденты». В 1974 г. эмигрировал в Норвегию, потом перебрался в Мюнхен, где работал на американской радиостанции «Свобода», которую в СССР справедливо считали «подрывной» и беспощадно «глушили», затем поселился в Париже и в 1977 году глупо погиб там от удара током, подключая антенну к телевизору. Похоронен на знаменитом парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где покоятся останки многих русских эмигрантов первой, послереволюционной волны. После выезда за границу был лишён советского гражданства, а все его ранее изданные произведения были запрещены.
/5/ Судя по всему, детство и юность Кира прошли в Керчи. Это удивительный город: история там – на каждом шагу, и чего только он ни повидал за три тысячелетия, что существует на этой земле. Здесь, на перекрёстке морей, оставили свой след греки и римляне, генуэзцы и гунны, хазары и турки; здесь, на дальней окраине античного мира, властвовал Пантикапей, шумел купеческий Черкио, сдерживал натиск врагов Корчев... Но в те времена, когда Кир родился и рос, этот город назывался уже просто и коротко – Керчь. И, пожалуй, ничем не отличался бы от других южных городов, если бы не два обстоятельства: полукриминальная добыча камня-ракушечника в близлежащих карьерах, на которую власть по каким-то причинам закрывала глаза, и наличие рыболовецкого флота, ведущего промысел вдали от родных берегов. Камень, приносящий огромные и малоконтролируемые доходы бригадирам-«бауэрам», и рыба, открывающая доступ к заграничному ширпотребу для «пароходчиков», формировали социально-экономический стандарт городской жизни, и планка его поднималась всё выше и выше. Так продолжалось до тех пор, пока не пришёл доморощенный капитализм, и вся эта жизнь не рухнула в тартарары. Но Кир всё равно любил этот город, потому что здесь он был молод и счастлив.
/6/ Януш Корчак, польский педагог, писатель, врач и общественный деятель; Антон Макаренко, выдающийся советский педагог и писатель; Василий Сухомлинский, советский педагог, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, заслуженный учитель школы Украинской ССР, Герой Социалистического Труда. Все эти люди считаются корифеями традиционной педагогики и внесли значительный вклад в теорию и практику воспитания детей. Рудольф Штайнер, «отец» антропософии и основатель альтернативной педагогической системы, называемой Вальдорфской. Первая школа, где преподавание основывалось на антропософском представлении о человеке, на образном мышлении и сопереживании, была открыта в 1919 году в немецком Штутгарте, при сигаретной фабрике «Вальдорф-Астория». При оборудовании таких школ, работающих по принципу «опережения» развития ребёнка, предпочтение отдаётся натуральным материалам и не готовым до конца игрушкам. Кир видел однажды, как побледнела и испугалась соседская девочка, когда ей показали куклу, у которой вместо лица была пустая белая тряпка. Примерно на таких же принципах строится и система воспитания, предложенная в начале прошлого века итальянкой Марией Монтессори. Судя по тому, как активно внедряются в наше образование все эти сомнительные новации, вряд ли стоит удивляться всё возрастающему количеству вступающих во взрослую жизнь неучей и недоумков, думал Кир, и был, наверное, прав.
/7/ Речь, видимо, идёт о Габриэле Мистраль (псевдоним Лусилы Годой Алькайяги) и Эмили Дикинсон. Во всяком случае, именно в этих книгах было больше всего маминых карандашных пометок. Габриэла Мистраль, чилийская поэтесса ХХ-го века, лауреат Нобелевской премии, в юности работала сельской учительницей, потом стала общественным деятелем и дипломатом. Пережитая в молодости личная драма обусловила трагические мотивы, главенствующие в её ранних «Сонетах смерти» и книге стихов «Отчаяние», названия которых говорят сами за себя. Время, как известно, неплохой лекарь, и потом она стала писать иначе, однако нотки горечи и безысходности прорывались у неё и в более поздних стихах. Эмили Элизабет Дикинсон, американская поэтесса ХIХ-го столетия, которая практически всю жизнь провела в массачусетском городке Амхерст, редко удаляясь от дома больше чем на пять миль. При жизни было опубликовано всего десять стихотворений из написанных ею тысячи восьмисот. Сегодня считается одним из самых значительных поэтов Америки. Стихи Дикинсон были очень необычны для своего времени – написанные короткой строкой, они, как правило, не имели названия, зато изобиловали нестандартной авторской пунктуацией и заглавными буквами там, где их не должно было быть. Во многих из них, как и в письмах к друзьям, знакомым с ней только по переписке, присутствуют мотивы смерти и бессмертия. Кончина двоюродной сестры, с которой они были близки, добавила ей меланхолии, а после расставания с любимым человеком Эмили практически перестала выходить из своей комнаты и общаться с людьми. Пожалуй, точнее всего её охарактеризовал английский писатель Джон Б. Пристли: «Наполовину старая дева, наполовину любопытный тролль, а в сущности – смелый и сосредоточенный поэт, по сравнению с которым мужчины, поэты её времени, кажутся робкими и скучными». Что же касается Кира, то он всем поэтам предпочитал Марину Цветаеву.
/8/ Прямая отсылка к повести-притче Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1970), наполненной идеями мессианства и самосовершенствования и ставшей культовой для определённоё части молодёжи из поколения родителей Кира, и к песне «Strangers in the night» («Незнакомец в ночи") прославленного американского исполнителя Фрэнка Синатры, которую в своё время распевал весь мир.
/9/ «Вы хотите купить нас? Но мы не продаёмся!» - лозунг молодёжного антибуржуазного нонконформизма, идеи которого были широко распространены в среде европейского студенчества начала 70-х годов прошлого века.
/10/ Начальные строки арии Марии-Магдалины из рок-оперы Эндрю Ллойд-Вебера и Тима Райса «Иисус Христос – суперзвезда» (1970). Разумеется, об её официальном появлении на наших театральных подмостках в те времена не могло быть и речи – государство вообще противилось проникновению в общество западной рок-музыки, а тут ещё и такие сюжеты... Но сказать, что опера была популярна в среде «продвинутой» молодёжи – значит не сказать ничего: вслушиваясь в сделанные с полуподпольных пластинок магнитофонные записи, перед ней преклонялись, её возносили до абсолюта, боготворили – так же, как некогда на выжженных солнцем палестинских холмах возбуждённые толпы иудеев творили бога из плотничьего сына, долго не понимавшего, чего от него хотят все эти люди.
/11/ Кир нашёл роман французского писателя Робера Мёрля «За стеклом» (1970). Это, в общем-то, даже и не роман – скорее, мастерски беллетризованная хроника студенческих волнений, действительно имевших место 22 марта 1968 года на филфаке Сорбонского университета, расположенном в пригороде Парижа Нантере, и ставших прологом знаменитой «Парижской весны». Тогда в университетах французской столицы царили леворадикальные настроения, названные позднее «гошизмом» – причудливый винегрет из анархизма, троцкизма и идей Мао Цзедуна. «Запрещается запрещать!», «Ограничивайтесь максимумом!», «Будьте реалистами, требуйте невозможного!» – таковы были главные лозунги студенческого движения, лидером которого был 23-летний Даниэль Кон-Бендит. Демонстрации, требовавшие отставки президента де Голля, быстро переросли в стычки с полицией, а потом – в строительство баррикад. Благополучный буржуазный Париж содрогался от звона разбитых витрин и пылал вместе с перевёрнутыми автомобилями. Через несколько дней к студентам присоединились профсоюзы, объявившие бессрочную забастовку, в которой участвовало 10 миллионов человек. В конце мая по телевидению выступил президент, заявивший, что страна находится на грани гражданской войны. Он отказался уходить в отставку, распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы. Лозунги «Прощай, де Голль!» и «Студенты – сила» стали реальностью через год, когда французы не поддержали генерала на объявленном им референдуме по расширению президентских полномочий.
/12/ Гуинплен – главный герой романа великого французского писателя Виктора Гюго «Человек, который смеётся» (1869). Маленьким мальчиком он попал в руки компрачикосов (от испанского comprachicos, букв. – «скупщики детей»), умышленно уродовавших их, чтобы потом перепродавать в качестве шутов, придворных карликов или певцов-кастратов. Они разрезали ему рот таким образом, что с его лица никогда не сходила страшная улыбка. Такой же примерно эффект вызывают многочисленные косметические операции по разглаживанию морщин, которыми нынче злоупотребляют молодящиеся матроны.
/13/ Имеется в виду Щукинское театральное училище (ныне – Театральный институт имени Бориса Щукина). Открытое ещё в 1914 году, оно всегда отличалось запредельными конкурсами и было кузницей кадров для многих театров страны.
/14/ Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова, в далёком послереволюционном прошлом – прославленный ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) – одно из старейших в России учебных заведений, готовящее проектировщиков интерьера и мебели, разработчиков декоративных и мебельных тканей, специалистов по дизайну и т. д.
/15/ Ивановский камвольный комбинат имени В. И. Ленина – одно из крупнейших текстильных предприятий страны, построенное в 1959 году и угробленное «эффективными собственниками» в 2003-м. Именно на нём Лера проходила производственную практику, застав ещё те времена, когда специалистов готовили не понарошку.
/16/ Старославянский язык и историческая грамматика русского языка – проклятье филологических факультетов. Крайне сложные учебные дисциплины, требующие от студентов очень больших усилий, которые не всегда оказываются оправданными. К таким же можно было бы отнести ещё и латынь, но Киру нравилась величественная древнеримская речь, в которой слова как будто бы высекались из благородного итальянского мрамора.
/17/ Главной причиной этого интереса был знаменитый роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» (1936), дошедший до советского читателя с полувековым опозданием. Любовная интрига, разворачивающаяся на фоне гражданской войны Севера и Юга, мало занимала Кира. Его привлекало другое – сила духа и независимость главной героини, несломленной страшными обстоятельствами, её верность традициям и устоям, трогательное сочувствие автора к тем, кто потерпел поражение, но не сдался, и убеждённость в том, что невозможно насильно сделать человека счастливым.
/18/ Инки и майя – индейские народы, населявшие север Южной Америки, представители древних цивилизаций, оставивших потомкам немало загадок, большинство из которых не разгадано и по сей день. Гуроны и сиу – племена североамериканских индейцев, жившие на берегах Великих озёр. В процессе начальной колонизации этих территорий были союзниками французов в их противостоянии с англичанами и имели непростые и крайне запутанные взаимоотношения друг с другом. Все эти коллизии мастерски описаны в романах Фенимора Купера, которые в детстве взахлёб читал Кир и которые совершенно не интересуют современных подростков. Кстати говоря, в наивных пантеистических представлениях индейцев Кир обнаружил немало общего с верованиями древних славян. Он собирался основательнее заняться всем этим потом, но не успел...
/19/ Первоисточник выражения – 8-е письмо римского автора Плиния Младшего (62-ок. 114 гг.). По сложившейся традиции, чаще всего цитируется в итальянском варианте.
/20/ Modus vivendi (лат.) – способ существования, образ жизни.
/21/ «Касике» – марка бразильского растворимого кофе, дефицитного по тем временам. Тогда многое было в дефиците – исландская сельдь в винном соусе, индийский чай «со слоном», финский сервелат... Зато была хорошая литература и настоящее кино. Первое сейчас – в изобилии, лишь бы денег хватало. А вот со вторым – просто беда...
/22/ Начало романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (1967). Когда-то Кир прочёл его на одном дыхании и сразу понял, насколько это великая книга. Потом перечитал её медленно и со вкусом и ещё раз убедился, что Гарсиа Маркес – гениальный писатель. Видимо, так же считал и Нобелевский комитет, присудивший колумбийскому отцу магического реализма свою премию – редкий для шведских ценителей прекрасного случай, когда награда действительно нашла героя. Потом Кир познакомился и с другими латиноамериканскими чародеями – Хулио Кортасаром, Марио Варгасом Льосой, Хорхе Луисом Борхесом – и тоже полюбил их. Но Гарсиа Маркес остался для него, что называется, forever.
/23/ «Санта Лючия» – одна из тех песен, которым обязан своим феноменальным успехом итальянский мальчишка Роберто Лорети, звенящий дискант которого покорил мир в начале 60-х голов прошлого века. В СССР, где певец был известен под именем Робертино Лоретти, он моментально приобрёл статус полубога, и Всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия», нечасто снисходившая до зарубежных исполнителей, не успевала штамповать тиражи его пластинок. Под «Аве Мария» плакали старики, «Вернись в Сорренто» до бесконечности продлевала поцелуи влюблённых, а пронзительная «Джамайка» стала гимном целого поколения тех, кто мог лишь мечтать о далёком карибском острове, где всегда лазурное море, а солнце практически не скрывается за горизонтом. Со временем детский дискант стал бархатным баритоном, но Робертино по-прежнему гастролирует по миру и записывает новые пластинки.
/24/ Тристан Тцара (настоящие имя и фамилия – Сами (Самуэль) Розеншток) (1896-1963) – румынский и французский поэт еврейского происхождения, основоположник дадаизма, в дальнейшем – активный участник движения сюрреалистов. В 1936 году вступил во Французскую коммунистическую партию, через двадцать лет вышел из её рядов в знак протеста против подавления Советской армией венгерского восстания. В годы Второй мировой войны участвовал во французском Сопротивлении. Дадаизм – модернистское течение в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино, считается предшественником сюрреализма. Возникший как реакция на последствия Первой мировой войны, жестокость которой подчеркнула бессмысленность существования, дадаизм объявлял главными врагами человечества рационализм и логику, а в качестве фундаментальной идеи выдвигал последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики. Основные принципы дадаизма – иррациональность, отрицание общепризнанных канонов в искусстве, цинизм, разочарованность и бессистемность. Излюбленным художественным приёмом дадаистов в живописи был коллаж – свои картины они создавали из определённым образом скомпонованных и наклеенных на плоскую основу – холст, бумагу, картон – кусочков различных материалов: бумаги, ткани и т. п. Как раз об этом и говорили в тот день Кир и Лера, неторопливо прогуливаясь по набережной, – о коллажах нашей жизни, беспорядочно составленной, сшитой и склеенной из пёстрых обрывков впечатлений, чувств и надежд, не имеющих обыкновения становиться реальностью.
/25/ Вне всяких сомнений, речь идёт о Тамани. Странно, что Кир, который вырос в Керчи, никогда раньше не бывал в этом городке, расположенном буквально напротив, на другом берегу пролива. Но факт остаётся фактом: впервые он приехал сюда вместе с Лерой. Как только ни назывался этот городок за свою долгую историю. Греки с острова Лесбос, основавшие его в VI веке до н. э., нарекли его Гермонассой, и под этим именем он процветал в составе Боспорского царства, бывшего тогда частью Византийской империи. Позже его захватил Тюркский каганат, под властью которого город назывался Таматархой. Потом сюда пришли хазары и переименовали его в Самкерц, а после того, как они вынуждены были отступить под напором киевского князя Святослава, он опять получил новое имя – Тмутаракань, под которым и стал столицей древнерусского Тмутараканского княжества. Спустя несколько веков на эти земли пришли турки, давшие ему название Таман, а русские, вернувшие себе городок в конце XVIII столетия, просто добавили к его имени мягкий знак. Контрабандистов «поселил» здесь М. Ю. Лермонтов: одна из частей его хрестоматийного романа «Герой нашего времени» так и называется – «Тамань». Ну а виноградари и виноделы появились в этих местах ещё при греках.
/26/ Рауль Дюфи (1877-1953) – французский художник, начинал как импрессионист, а потом стал одним из ярких представителей фовизма и кубизма. Пытался раскрыть структуру формы предмета и отобразить её на полотне. Активно практиковал в своих работах разделение цвета и рисунка. Был большим мастером и поклонником акварели, что особенно привлекало в нём Леру. Рене Франсуа Гислен Магритт (1898-1967) – бельгийский художник-сюрреалист, работавший в как бы отстранённом, невозмутимом, но одновременно поэтическом и загадочном стиле. В отличие от других значительных сюрреалистов, изображённые на его картинах обычные вещи практически никогда не теряют своей «предметности» – не растекаются, не превращаются в собственную тень, но само их сочетание поражает и заставляет задуматься, погружая зрителя в некое поэтическое оцепенение, порождаемое самой тайной предметов. Из-за этого его картины фантасмагоричны и напоминают ребусы, которые невозможно до конца разгадать. Магритт стремился в своём творчестве решить проблему соответствия нашего восприятия реальному миру, осмыслить разницу или тождественность между изображением и действительностью, поэтому нередко использовал образы картины в картине, окна, зеркала, глаза или занавеса.
/27/ Довольно прозрачный намёк на хорошо известную любителям фантастики «молитву» из романа американского писателя Курта Воннегута «Бойня номер пять»: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество – изменять то, что могу, и мудрость – всегда отличать одно от другого». Кир не очень любил фантастику, но случалось, что некоторые книги такого рода сильно задевали его. Например, знаменитая антиутопия другого великого американца Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В описываемом там постиндустриальном обществе пожары были невозможны по определению, поскольку все предметы – одежда, мебель, строительные конструкции – изготавливались из негорючих материалов. Однако профессия пожарного пользовалась очень большим уважением – их вызывали туда, где обнаруживались книги, для того, чтобы их сжигать: Фаренгейт 451 – температура воспламенения бумаги. Брандмейстеры, считавшие себя санитарами общества, охотно участвовали в этих огненных оргиях. И только один пожарный изменил профессии – он книги спасал. Брэдбери написал свою антиутопию шесть десятилетий назад, но Кир часто думал о том, как нам не хватает в сегодняшней жизни таких пожарных...
II
Умирает закат. В эти тёплые дни Далеко до ненастий. Не глядите назад. Не просите любви. Не надейтесь на счастье...
Сентябрь, как всегда, пришедший некстати, означал, кроме всего прочего, и окончание Лериного отпуска. В Москве к тому времени заметно похолодало, и, шагнув с самолётного трапа в слякоть и сырь, Лера почувствовала себя, как в параллельном мире. Лето, закончившееся только вчера, вдруг потускнело и сморщилось, как забытое на подоконнике яблоко, и если бы не шесть строк на мятой ресторанной салфетке, которую Кир затолкал ей в карман в последний момент, от него бы совсем ничего не осталось... Кир собирался в Америку, за океан, и обещал звонить ей не реже раза в неделю. Но отсюда, из сырой и промозглой Москвы, все летние обещания казались какими-то ненастоящими. Так оно, в общем-то, и получилось: Кир позвонил только раз, ночью, практически из аэропорта. Где-то на пути ненадёжных телефонных каналов грохотала нечастая в это время гроза, трубка хрипела и кашляла, и Лера расслышала совсем немногое – что-то типа «спасибо», «это было так здорово», «жди». – Да-да. Разумеется... Буду ждать... – ответила Лера глухому пространству и положила трубку. А потом добавила, уже для себя. – Конец связи...
...Из почти трёхлетней заокеанской жизни Кир, говоря словами поэта, вынес всего несколько идей и ни одного чувства /1/. Если же иметь в виду овеществлённые артефакты, то их тоже оказалось немного: довольно приличная сумма на банковской карточке, пяток переводов из Роберта Браунинга /2/, сделанных по преимуществу для собственного удовольствия, и свитерок сомнительного происхождения, помеченный, несмотря ни на что, красно-синим норвежским крестом. Свитер приобрели в своё время на рождественской распродаже в глухом пенсильванском захолустье, куда хмурым декабрьским утром Кира затащила невыспавшаяся гринвич-виллиджская компания /3/, совершенно случайная, как и всегда бывает в этих патентованных богемных кругах. Долговязый и как-то некрасиво веснушчатый швед, считающий себя специалистом по микрофауне Малых Антильских островов. Самонадеянный художник-абстракционист, не продавший ни одной картины, но уже вовсю примеряющий на себя лавры Малевича /4/. Поджарая, напоминающая вяленую ставриду девица с неопределённым родом занятий и мёртвыми пергидрольными волосами. Все они были знакомы не дольше двух дней и составляли некий причудливый симбиоз, который запросто мог рассыпаться за следующим поворотом. Кир с интересом наблюдал, как не уверенный в своих силах исследователь зоопланктона, с трудом натягивая улыбку на тонкие губы, всю ночь безуспешно обхаживал откровенно скучающую блондинку, а потом, похоже, решил отомстить, погрузив её в слякоть и слизь другого человеческого порока, столь же неизбывного, как и любовь.
Крохотный сетевой универмаг, маскирующий собственное убожество прославленным брендом, изо всех сил старался не отставать от своих респектабельных сотоварищей и вывалил на прилавки гору дешёвенького ширпотреба, не имеющего никаких шансов быть проданным при других обстоятельствах. Но переписанные за ночь ценники настолько воодушевляют добропорядочных американцев, что они готовы скупать любой залежалый товар, вне зависимости от того, нужен он им или нет. В дни таких распродаж Америка, переплавившая в своём чудовищном тигле миллионы изгоев, чужаков и непризнанных гениев, в предвкушении сэкономленной десятки охотно отказывается от избыточных предрассудков, являя окружающему её миру всю окалину, накипь и вонь, неизбежно сопровождающие процесс производства даже самого чистого материала. И потому не стоит удивляться, что она воспринимает этот мир как нескончаемые торговые ряды, где в безжалостной борьбе за дисконты неизменно выигрывает тот, у кого крепче челюсти и шире плечи.
Глядя на эти бессмысленные американские игры, Кир вспоминал, как в своё время относились к одежде его родители. Вещи составляли для них некую не совсем материальную ценность, были не просто предметами обихода, имеющими конкретную стоимость и известный практический смысл. В стране, где высказываться при посторонних иногда бывала небезопасно, они становились своего рода опознавательным знаком, работали как система оповещения «свой-чужой», посылая тому, кто её понимает, чёткий сигнал, помогающий жить и не очень остро чувствовать одиночество. По одежде определяли круг общения, образ мыслей и взгляды на жизнь, подбирали товарищей, соратников и любимых... Потом, когда джинсы подорожали и превратились всего лишь в модный атрибут для тех, у кого водятся деньги, система перестала работать, и уже нельзя было запросто обратиться на улице к незнакомому парню в потёртых синих штанах, рассчитывая на бескорыстное понимание и поддержку...
...Свитер, собственно говоря, предназначался художнику, которого совсем не грело насквозь продуваемое ветром куцее студенческое полупальто, и призван был разрешить его терморегуляционные затруднения, но каким-то образом оказался в сумке у Кира, обнаружившего это после возвращения в Нью-Йорк. К тому моменту его мимолётные товарищи были уже далеко, и вряд ли стоило разбираться, кто из них что перепутал в похмельно-предпраздничной суматохе. Со временем свитерок обвис и поистрепался, растянулся вширь и в длину и стал для Кира неким олицетворением Соединённых Штатов: сделанный неизвестно кем и непонятно из чего, он по-прежнему сохранял ощущение тепла и какого-то неотчётливого благополучия, приобретённого за чужой счёт... А вообще-то Америка Киру не очень понравилась. В Нью-Йорке, к примеру, он чувствовал себя неуютно едва ли не с первых дней. Его раздражала бесконечная суета и разноголосица, настораживала всепоглощающая жажда успеха любой ценой и отталкивала самоуверенная снисходительность к прочему миру, под которой таилось плохо скрываемое безразличие и презрение к тем, кто слабее тебя. А все романтические клички и прозвища этого каменного муравейника, несокрушимо убеждённого в том, что он лучше других, вызывали у него всего лишь ироническую усмешку – чего-чего, а уж романтики-то эта незыблемая твердыня лицемерия и непререкаемых истин была лишена по определению. «Город Большого яблока, Город, который никогда не спит» – всё это не более чем понты для приезжих», – неприязненно вспоминал Кир, думая о Нью-Йорке. Гораздо больше ему подошло бы другое – «Горе, горе тебе, великий Вавилон, город крепкий...» /5/. Так что когда пришло время возвращаться на родину, Кир горевал несильно.
Изменившаяся за время его отсутствия Москва не сказать, чтобы удивила, но как-то не порадовала Кира. Посмотрев на холодную Тверскую с пустыми белыми магазинами для продавцов, на хмурых таджиков, с отвращением сгребающих с тротуаров весеннюю грязь, на чёрные оконные дыры брошенных недостроев, он пожал плечами, завершил все дела с Сергеем и разыскал старых товарищей, вместе с которыми приехал когда-то на свет манящих столичных огней. Посидев в «Метелице» /6/, ничем не напоминающей некогда родную для них «Метлу», они как-то разом решили, что неплохо было бы съездить на юг.
Весь апрель они колесили на чьём-то задыхающемся от старости «москвиче» по пустынным крымским дорогам, гладили ладонями шагреневую кору кипарисов, и сиреневая дымка, невесомо плывущая над сонными долинами Южнобережья, манила их сладкой флибустьерской надеждой на близкие перемены. Они утюжили клёшами синих американских штанов беззаботные приморские переулки, пили на набережной тягучее чёрное пиво по пять долларов за бутылку и смеялись, глядя, как местные простаки судорожно скупают в стеклянных киосках планирующие подорожать сигареты. Заехали зачем-то на храмовый праздник в большое, меланхолично вздыхающее о прошлом село. Там всё было, как раньше, как сто лет назад – тоскливые песни подвыпивших прихожан, грустный священник в сизой от пыли и времени рясе, привычная перебранка враждующих от нечего делать соседок... «Покрывается солнечной ржой Всё, что было когда-то любимо. День, сгорая, проносится мимо, И горчит трёхгрошовая «Прима». Ничего больше нет за душой, Кроме родины этой чужой Под обложкою Третьего Рима» /7/, – вспомнил почему-то Кир, слушая суматошный вороний грай над угасающими в закатных лучах куполами, и на душе у него сделалось спокойно и хорошо, как бывает у человека, живущего правильно и по совести и знающего, чего ему от жизни ждать.
Они давным-давно стали чужими под этими кипарисами, на этих губительных мостовых, ведущих отсюда прямёхонько в ад, но по-прежнему ощущали себя плотью от плоти красноватой каменистой земли, упорно выталкивающей из себя потускневшие античные черепки и благородные ростки винограда, чтобы следующим поколениям было что есть и чем гордиться, чтобы люди, появляющиеся здесь на свет, чувствовали свою сопричастность к миру, которому чаще всего нет до них никакого дела. И навсегда расстаться с этой землёй, залитой бледно-розовым апрельским цветением или выкрашенной в охру и киноварь сентября, было невозможно, что бы там ни случилось...
...Прошлое затягивает, если ему чересчур доверяться, и когда товарищи разъехались по своим делам, а Кир остался, он убедился в этом ещё раз. С другой стороны, он не мог так просто уехать. За три года, что его не было дома, их простой, но налаженный быт дал, что называется, трещину: отец не то чтобы совсем махнул на него рукой, но и не особо усердствовал, чтобы поддерживать всё так, как это было при маме. А кроме того, Кира никто и нигде не ждал – и, может быть, как раз это и было важней всего остального. За пару месяцев они с отцом отремонтировали квартиру, более-менее привели в порядок совсем уж одичавшую дачу и даже успели разок-другой половить отощавших к лету бычков, утративших от зимней бескормицы всякую осторожность. Отец как-то подтянулся и посвежел и вообще чувствовал себя вполне сообразно сложившимся обстоятельствам. Да и Киру было неплохо. Он похудел, отпустил бороду и опять начал замечать на улицах неравнодушные женские взгляды. А потом наступило настоящее лето, город собрался и разгладил морщины, готовясь встречать долгожданных гостей, и Кир всё чаще стал ощущать на губах не новый, но основательно подзабытый за время отсутствия вкус невыносимой лёгкости бытия /8/. К тому же, кто-то из уезжающих друзей как в воду глядел и оставил ему ключи от машины и пустого родительского дома на побережье, и у Кира не было никаких проблем ни с жилплощадью, ни со средствами передвижения. А потом судьба решила, видимо, поразвлечься, и мягким сиреневым вечером, когда небо опускается ниже, а мостовые неохотно расстаются с накопленным за день теплом, Кир встретил на улице Леру. Откровенно говоря, на юг она в этом году не собиралась. Но лёгкая весенняя хандра разыгралась до такой степени, что грозила перерасти в настоящую летнюю депрессию, а это уж было совершенно недопустимо. Ну а вопрос о том, куда именно следует ехать, разрешился помимо её желания.
Лера не знала, где сейчас Кир. И, разумеется, с негодованием отвергала любые предположения относительно того, что ищет с ним встречи. Тем не менее, сидящий в душе и приунывший было бесёнок настойчиво толкал её под локоть в очереди за билетами, и у неё не нашлось достаточно сил для подлинного сопротивления. Трудно сказать, на что она надеялась, выходя из гостиницы в тёплые лиловые сумерки. Но у надежды – всегда большие глаза и хорошая память, и поэтому при стечении всех сопутствующих обстоятельств результат выглядел вполне предсказуемым... В первый момент они вроде бы даже не узнали друг друга, но оторопь прошла быстро: Кир наклонился, Лера не отшатнулась, и поцелуй получился совсем как настоящий, как три года назад. Сумерки плавно перетекали в бархатную ночную мглу, на бульваре прибавлялось курортных парочек, пока ещё не жаждущих уединения, а в зарослях дикого винограда неуверенно пробовали голоса первые проснувшиеся цикады. За столиками у воды не было свободных мест, и неопытные летние официанты сбивались с ног, безнадёжно запутываясь в заказах, а публика всё прибывала и прибывала. Кир и Лера устроились вдалеке, под матовой зеленью только что отцветших акаций, заказали такой же, как и раньше, коктейль и вместе со всеми стали ждать фейерверка, который, не считаясь с расходами, каждый вечер зажигали над набережной жизнерадостные хозяева заведения. Фейерверк получился что надо. Разноцветные огненные шары вспыхивали над морем, разворачиваясь в диковинные соцветия, и взрослые люди, пришедшие на этот праздник огня, радовались, как дети, и вскидывали вверх руки, как будто хотели поддержать плывущие над головой жёлтые, зелёные, красные брызги, чтобы продлить их невесомое стремительное падение. И даже пожилой одинокий смотритель, давным-давно остановивший свою карусель, не торопился домой, а стоял вместе со всеми, подняв глаза к тёмному небу, по которому дымными сполохами раскатывался ненастоящий ослепительный свет... ...Пустой дом встретил их настороженностью и прохладой, но быстро оттаял, как только комнаты наполнились музыкой и голосами, и когда Кир по-хозяйски откупорил бутылку вина, всё вернулось к гармонии и порядку. В оконную сетку бились обманутые насекомые, где-то внизу море перебирало свои вечные камешки, а дом умиротворённо наблюдал, как двое потерпевших кораблекрушение пытаются выстроить из сохранившихся чудом обломков спасительный плот...
Ночь прошла незаметно, и когда Кир проснулся, осторожно высвободившись из одеяла, Лера ещё досматривала последние сны. Потом, когда всё закончится и исчезнет, она попробует вспомнить, что ей снилось в то безмятежное утро. Но память, услужливо сохраняющая всякие пустяки, сможет предложить ей совсем немногое – сиреневые тени от занавески, косо проскальзывающие по стеклу, воздушные змеи, парящие над заливом, как на гравюрах у Хокусаи /9/, какие-то разноцветные блики, похожие на пёстрые весёлые флаги непрочных тропических островов, никогда не задумывающихся о том, что ждёт их за гранью заката...
Они смогли продержаться чуть больше недели. Всё вокруг вроде было, как раньше, как три года назад. Но белая полоска кожи, легкомысленно выглянувшая из-под купальника, больше не резала Киру глаза, улицы и переулки, по которым они самозабвенно странствовали когда-то, уже не таили прежних открытий, а порт был так загружен работой, что у него совершенно не оставалось времени на маленькие вечерние перерывы. Кир разочарованно вглядывался в эту трёхлетнюю бездну и не мог понять, что случилось с ними и с миром за тысячу дней, отделяющих вчера от сегодня, и на душе у него становилось пасмурно и нехорошо.
...Они приехали на вокзал задолго до отправления и сидели в машине, слушая, как радиоприёмник, похрипывая от помех, рассказывает им о погоде на завтра. Лера курила, и сигарета, когда она подносила её к губам, прочерчивала в полутьме салона нервную отрывистую параболу. И почему-то у них совсем не было слов. Лера задушила в пепельнице огонёк и провернула голову к Киру. – Ну что, наверное, мне пора. Не провожай меня, здесь совсем рядом... Потом выбралась из машины, взяла с заднего сиденья сумку и осторожно прикрыла за собой дверь. Кир вышел следом, и теперь они стояли друг против друга – как два боксёра, прекрасно знающие, чего им ждать от последнего раунда. – Который час? – зачем-то спросила Лера. – Четверть десятого, – чуть помедлив, ответил Кир. Но Лера его уже не услышала. Не оборачиваясь, она промахала ему рукой от начала перрона - точь-в-точь, как Лайза Минелли в фильме у Боба Фосса /10/, и растаяла в мягко подсвечиваемых золотом и кармином сумерках – теперь уже навсегда. Кир постоял ещё немного, посмотрел, как ползёт по сигарете багровая змейка, потом сел в машину и включил зажигание.
...Нам многого не хватает на этой земле, а тем, что у нас есть, мы чаще всего распоряжаемся безрассудно. Нам недостаёт денег и времени, внимания и тепла, мы торопимся и опаздываем, не успевая по-настоящему любить живых и достойно хоронить мёртвых. Мы обрываем друг друга на полуслове, не слушаем ничьих советов, не терпим никаких возражений и порой даже не хотим слышать самих себя. И если всё это называется у нас жизнью, то чего она стоит, такая жизнь?.. Люди, которые нам встретились или не встретились, которые успели или не успели нас полюбить – кем они нам приходятся и кому мы должны быть благодарны за то, что их не было с нами, когда нам это было необходимо, или за то, что они оказались в нужном нам месте в нужный час? И что мы можем сделать, чтобы искупить перед ними свою вину за упущенные возможности, за растаявшие иллюзии, за одиночество и неприкаянность попусту растраченных лет?..
...Ближе к осени Кир заскучал. Все домашние дела были вроде бы переделаны, мироощущение отца опасений не вызывало, родственники, шумно и весело гостившие целый месяц, разъехались. Город, как сытая обленившаяся кошка, пока ещё грелся на солнышке, но постепенно сворачивал свои летние хлопоты. На пляжах убирали зонты, безработный карусельный смотритель целыми днями дремал в своём продавленном кресле, и народ больше не собирался на набережной в ожидании фейерверка. Кир слонялся по комнатам, отворачиваясь от недоумённого взгляда отца, смотрел, как набухают за окном тяжёлые фиолетовые капли инжира и всё чаще думал о том, что неплохо бы сменить обстановку. Уехать куда-нибудь за тридевять земель, не иметь ни перед кем никаких обязательств, не надеяться на лучшее и не ждать перемен.
Киру нравились острова. Он любил их замкнутый, настороженный мир, от которого по большей части не ждёшь ничего хорошего, неспешное, обособленное течение жизни, когда в промежутке между штормами успеваешь подумать о множестве важных для человека вещей. О том, что надо поправить крышу, пострадавшую от вчерашнего ветра. О том, что к весне не худо бы заново просмолить плоскодонку, чтобы спокойно выходить в море, когда будет нужда. О том, что годы хочешь не хочешь, но всё же берут своё, а рассчитывать приходится лишь на себя и на собственные усилия... Это правда – не один человек не остров, думал Кир. Всюду жизнь – спешка и суета, потоки людей и машин, короткие сумерки и мокрые мостовые, и нам случается чувствовать себя одинокими. Но ведь это ещё не повод сбиваться в архипелаги, а потом судорожно отстаивать облюбованное местечко в круговороте тёплых воздушных масс и благоприятных течений. Потому хотя бы, что колокол, пробуждающийся в горький вечерний час, всегда звонит по каждому из нас в отдельности, а не по всем вместе /11/.
____________________________________
/1/ Эти слова принадлежат Печорину, главному действующему лицу романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1840).
/2/ Роберт Браунинг (1812-1889) - английский поэт и драматург, имеющий репутацию философа и нарочито усложнённым и туманным языком. Его излюбленная поэтическая форма – драматический монолог, полный философских раздумий, исторических реминисценций и воспоминаний с подчёркнутым интересом к морально-психологическим душевным конфликтам. Сам Браунинг называл этот жанр «интроспективной драмой».
/3/ Гринвич-Виллидж (или просто Виллидж) – жилой район в Нью-Йорке, в западной части Нижнего Манхэттена. В первой половине прошлого века он был пристанищем богемы и политических деятелей радикального толка. Там жили драматург Юджин О’Нил, мировая танцевальная знаменитость Айседора Дункан, la femme fatale Сергея Есенина, журналист Джон Рид, автор книги «Десять дней, которые потрясли мир», посвященной революции 1917-го года в России, поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей. К середине столетия Гринвич-Виллидж становится главным центром бит-поколения, породившего широко распространившееся по миру движение хиппи и неплохую литературу – прозаиков Джека Керуака и Уильяма Берроуза, поэта Аллена Гинзберга, певцом и музыкантов Боба Дилана и Саймона и Гарфанкела. Сейчас богемная жизнь Виллиджа канула в лету – неформалы покидают его из-за выросших цен на жильё, перебираясь в Бруклин, Квинс и Нью-Джерси. Но его жители всё так же выделяются либеральными взглядами и образом жизни и гордятся своей историей, называя весь остальной Нью-Йорк севернее 14-й улицы «селом» (upstate, если по-английски). Кир, ещё заставший остатки былого величия, снимал там крохотную квартирку, выполнявшую одновременно и функции офиса, где он встречался со своими металлургическими контрагентами.
/4/ Казимир Малевич (1879-1935) – российский и советский художник-авангардист польского происхождения, основоположник супрематизма – направления в абстрактном искусстве, философ, теоретик живописи и вообще культовая фигура для русского авангарда. Нет, наверное, смысла напоминать, что самое знаменитое произведение Малевича - картина «Чёрный квадрат», ставшая своего рода манифестом супрематистов. Всю жизнь Лера пыталась понять, чем в ней следует восхищаться, но так и не поняла. И поэтому относилась к достоинствам этой картины с изрядной долей сомнения.
/5/ «Откровения Иоанна Богослова» (нередко упоминается как «Апокалипсис»), гл. 18. Самая, пожалуй, любимая книга Кира из Нового Завета. Он никогда не испытывал каких-то особенных религиозных чувств, считал, что вообще негоже чему-либо поклоняться, и был убеждён, что бог у каждого свой – в душе. Поэтому Библию воспринимал как по-настоящему умное художественное произведение с уникальной образностью и философией, заставляющей о многом задуматься человека, задержавшегося на этой земле. И вот в этом-то смысле «Апокалипсис» был для него вне конкуренции. Что же касается 18-й главы, то её ксерокопия висела в рамочке на стене его нью-йоркской квартиры, и он перечитывал эти строки едва ли не каждый день: «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы... За то в один день придут на неё казни, смерть и плач и голод... И восплачут и возрыдают о ней цари земные, говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришёл суд твой... Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом... И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нём найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле».
/6/ Кафе «Метелица» на Новом Арбате в студенческие годы Кира было вполне демократичным заведением с подачей мороженого и лёгких напитков, и туда нередко захаживала молодёжь. Сейчас – элитарный ночной клуб для «мажоров» и нуворишей.
/7/ Цитата их стихотворения В. Прокошина «Письмо Иосифу», адресованного И. Бродскому. Валерий Прокошин (1959-2009) – самый значительный, по мнению Кира, русский поэт последних десятилетий, пришедший в литературу из Сети и трагически недооценённый по сей день. Иосиф Бродский (1940-1996) – советский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии, «икона» новой российской либеральной поэзии. Осуждённый в своё время за тунеядство, покинул Советский Союз, обосновался в Соединённых Штатах и так и не вернулся на родину после перестройки, хотя утверждал в своём стихотворении: «Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать. На Васильевский остров Я приду умирать...» Смерть, наверное, их помирила, но при жизни В. Прокошин, если судить по цитируемому произведению, относился к Бродскому довольно скептически. Третий Рим – основанная на концепции «переноса империи» европейская религиозно-историософская и политическая идея, которая использовалась для обоснования особого религиозно-политического значения различных стран как преемниц Римской империи и для легитимации притязаний тех или иных монархий на преемственность по отношению к Византии. Теория «Москва – Третий Рим» послужила смысловой основой мессианских представлений о роли и значении России, сложившихся в период возвышения Московского княжества. Московские великие князья полагались преемниками римских и византийских императоров.
/8/ «Невыносимая лёгкость бытия» – так называется роман чешского писателя Милана Кундеры, написанный в 1982 году и не издававшийся в то время в Чехословакии. Вряд ли он имеется здесь в виду – скорее всего, это просто текстуальное совпадение. Хотя как посмотреть... Роман считается постмодернистским – согласно Кундере, наше бытие наполнено невыносимой лёгкостью, поскольку каждый живёт всего один раз: «Einmal ist Keinmal» (в переводе с немецкого – «Единожды – всё равно что никогда»). А значит, то, что произошло всего лишь однажды, как бы и не происходило вовсе, «один раз не считается». Другими словами, каждая жизнь несёт в себе таинственную случайность, каждое наше действие не может полностью предопределить наше будущее. Никакой выбор не отягощён последствиями, и поэтому не важно, что именно вы выбираете... Кир вполне мог разделять такие взгляды на мир, и упоминание названия этого романа может быть здесь совсем не случайным.
/9/ Кацусика Хокусаи (1760-1849) – великий японский художник жанра укиё-э, иллюстратор и мастер ксилографии периода Эдо, один из самых известных на Западе гравёров своей страны. Художник, не захотевший потакать вкусам тогдашней публики, выработал собственный стиль, почерпнув некоторые приёмы из отдельных японских школ живописи и применив европейскую перспективу. Его суримоно отличаются от работ других мастеров гравюры подчёркнутым вниманием к изображаемым предметам, природе и окружающему миру, в результате чего каждая деталь обретает неочевидный на первый взгляд смысл. Изображаемый на дальнем плане пейзаж выглядит у него настолько естественным, что перестаёт служить просто фоном и открывает собственную самоценность, из которой проистекает всё разнообразие художественных замыслов. Что ещё очень важно – Хокусаи показывает на своих суримоно живых людей: они активно взаимодействуют с пейзажем, но фоне которого изображены, прикрывают рукой глаза от солнечного света, показывают друг другу на облака, смотрят вдаль, иногда даже поворачиваясь спиной к зрителю. Этот подчёркнутый интерес к внутренней сути явлений, к деталям. Которые могут показаться незначительными, сообщает сюжетам Хокусаи какую-то особую камерность и интимность. Одним словом, когда Лера впервые увидела его гравюры, она сразу поняла, что в её случае японец попал «в десятку»... Укиё-э (в переводе с японского – картины изменчивого мира) – направление в изобразительном искусстве Страны восходящего солнца; гравюры в этом стиле – основной в Японии вид ксилографии. Изначально они были чёрно-белыми – использовалась лишь тушь, но со временем некоторые работы стали раскрашиваться вручную с помощью кисти. Характерными сюжетами для укиё-э были картины повседневной жизни, созвучные темам городской литературы, на них изображались гейши, борцы-сумоисты, популярные театральные актёры. Позднее появилась пейзажная гравюра. Эти работы, доступные из-за возможности массового производства, предназначались для небогатых горожан, которые не могли себе позволить приобретение картин. Ещё одна небезынтересная деталь: слово «укиё», переводящееся как «плывущий мир», – омофон к буддистскому термину «мир скорби», записываемый другими иероглифами. Суримоно – вид традиционного японского искусства, цветная ксилография широкого жанрового разнообразия и вполне определённого назначения: в среде городской интеллигенции она служила подарком, поводом для которого могло быть всё что угодно – рождение сына, юбилей, наступление поры цветения сакуры, перемена фамилии, Новый год...
/10/ Кир вспоминает сцену из фильма «Кабаре» (1972), снятого американским режиссёром Бобом Фоссом на основе одноимённого бродвейского мюзикла. В получившей восемь «Оскаров» картине с прекрасной актёрской игрой и отличным саунд-треком мастерски показано становление нацизма в Германии 30-х годов прошлого века. Если в начале ленты штурмовика вышвыривают из клуба как хулигана, то по мере развития сюжета люди в нацистской форме всё плотнее заполняют кадр и в финале составляют уже основную часть публики в кабаре. А больше всего Киру запомнился эпизод, в котором белокурые и по-немецки аккуратные дети вдохновенно поют о красоте родной земли, о любви к родине, о величии арийского духа... «Как замечательно всё начиналось, – думал Кир. – И как отвратительно в итоге закончилось... ».
/11/ Практически прямая ссылка на цитату из английского поэта-метафизика Джона Донна (1572-1631), послужившую эпиграфом к роману «По ком звонит колокол» американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899-1961). Полностью она выглядит так: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши, и если Волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». Поэты-метафизики – школа английских барочных поэтов XVII века, придерживавшихся неоплатонических взглядов. Возглавлял направление Джон Донн. Для метафизиков характерно ощущение распавшегося мироздания и утраты цельности представления о нём. Основным постулатом эстетики Донна и его последователей был conceit – парадоксальное или ироническое сопоставление абсолютно несхожих предметов для иллюстрации той или иной идеи. Тело возлюбленной они могли сравнивать с картой Земли, а отдаляющихся друг от друга любовников – с расходящимися ножками циркуля. Возрождению интереса к метафизикам в наше время способствовали поэты-модернисты, считавшие их своими предшественниками. Эрнест Хемингуэй – американский прозаик, драматург и журналист, лауреат Нобелевской премии, искренне уважаемый многими поколениями советских читателей. Катастрофически обделённый в детстве материнским теплом, он всю жизнь любил женщин, больше похожих на мужчин, и что-то доказывал себе и миру: с безрассудной настойчивостью лез в самое пекло войны, отважно пересекал на хрупких аэропланах безграничные пространства африканских пустынь, охотился на крохотной яхте за немецкими подводными лодками. Кир считал Хемингуэя сугубо мужским писателем, потому что все его произведения посвящены, в общем-то, двум темам – любви и войне. Ну и, соответственно, всему тому, что их сопровождает.
III
...Умирает закат. Постоим на ветру – Ни печали, ни слова. Кто и в чём виноват? Так случилось. И вдруг Мне почудится снова Дальний отблеск огня, Но я лишь оглянусь На сиянье. Угасание дня. Угасание чувств. Угасанье... ...Москва встретила Кира неласково. А может быть, просто была плохая погода. В любом случае, расстраиваться не стоило – он ведь и не рассчитывал на какой-то особенно тёплый приём. В старых редакциях ему улыбались и охотно расспрашивали об Америке, но моментально находили поводы распрощаться, стоило Киру заговорить о вакансиях. А в новые он и не обращался. В «толстом» журнале, куда он был вхож в своё время, подержали двумя пальцами его американские переводы и рассказали, что главный постоянно чудит, подписчиков маловато, а бумага с каждым днём всё дороже. И добавили, пряча глаза: – Можем, конечно, напечатать. Но только за деньги... – В смысле я должен за это заплатить? – не сразу сообразил Кир. – Ну да... Сейчас все так делают... – Спасибо, ребята. Боюсь, что на данном этапе мне это не подойдёт, – усмехнувшись, сказал Кир. – Пусть уж лучше переводы у меня в столе полежат /1/. Уже на лестнице кто-то окликнул его по имени: – Не узнаёшь? Это же я, Толик... Кир вспомнил, что на студенческом сленге «толиками» именовались простофили и недотёпы, те, кого в менее просвещенных кругах называют «лохами». А этот конкретный Анатолий был удостоен звания «толик с планшетом», означающего максимальное воплощение всех перечисленных качеств. Они учились на одном курсе, и если Толик чем-то и запомнился Киру, то разве что внешней и внутренней неопрятностью и патологическим неумением вовремя сдавать экзамены и зачёты. За эти годы он изменился – научился, не мигая, смотреть людям в глаза и многозначительно улыбаться при разговоре, как бы показывая, что знает о собеседнике что-то не слишком хорошее. По пёстроё татуировке чуть пониже плеча Кир догадался, что он представляет какую-то очень националистическую организацию. Узнав, что Кир только что из Америки, Толик вдруг оживился: – Что ты там трёшься с этими мордехаями? Не надоело? Давай лучше к нам – вместе будем русскую идею проталкивать... Кир помолчал, размышляя, как лучше ответить: – Спасибо за приглашение. Не думаю, однако, что вам со мною понравится. Меня, знаешь ли, с детства учили, что нет ни эллина, ни иудея /2/... – Если бы не было! Ещё как есть! Эти... как ты их называешь?.. – Иудеи и эллины... – Вот-вот... они русскому человеку уже и проходу не дают. Куда ни глянешь – кавказцы, азиаты... жёлтые... чёрные... Для кого стараемся? На кого матушку-Россию растрачиваем?.. На этом месте Кир, не имеющий никакого желания участвовать в подобных дебатах, решил, что пора прощаться, кивнул Толику и пошёл вниз по лестнице, не обращая внимания на его разочарованную жестикуляцию...
... В конце концов, без особого смысла помыкавшись пару-другую месяцев, Кир благодаря своему продвинутому английскому и удачно сложившимся на тот момент межзвёздным взаимоотношениям устроился в некую контору, в безликом наименовании которой слово «спорт» сопровождалось по нынешней моде ничего не значащим иностранным довеском – то ли «management», то ли «production». Фирма с переменным успехом занималась обеспечением дорогостоящих удовольствий разного рода бездельников, не знающих, на что ещё потратить шальные деньги, и с приходом Кира дела у неё вроде бы пошли в гору. Его назначили старшим в группе поисковиков, что, помимо дополнительных заработков и авторитета, предполагало ещё и определённые преференции при выборе маршрута следующей командировки. Несомненные преимущества своего нового положения Кир оценил достаточно быстро. Контора оказалась не очень прижимистой и не особо считалась с командировочными расходами, пусть даже и выглядевшими порой не совсем оправданными. К тому же, хозяин, отставной немногословный полковник, долгие годы прослуживший на ниве «глубинного бурения» /3/, сохранил свои старые связи и обзавёлся новыми, и такой пустяк, как обеспечение ценного сотрудника многократной шенгенской визой, не составлял для него никаких проблем. Кир не очень любил путешествовать. Бесцельные длительные поездки представлялись ему утомительными, достопримечательности не вызывали того интереса, на который он мог бы рассчитывать, а туристы казались глупыми беззастенчивыми пеликанами, которые восторженно хлопают крыльями по всякому поводу. Тем не менее, посмотрев на Америку, Кир решил познакомиться и с Европой. Поколебавшись, он со смутной надеждой на то, что ему понравится, купил билет до Брюсселя, собирался ещё в Лондон и, возможно, в Париж. Последний манил Кира больше всего, но его же он более всего и опасался – так непослушные дети в новогоднюю ночь ждут подарков под ёлку, но боятся, что Дед Мороз не придёт, потому что они плохо себя вели. До Франции он так в итоге и не добрался, да и остальные надежды совсем не сбылись: святые старые камни Европы, о которых он столько читал и думал, когда был от них далеко, никак не хотели складываться для него в новые храмы /4/. В этих непродолжительных, между делом, вояжах Кир обнаружил массу вещей, совершенно удивительных для практического человека. В Лондоне, например, его огорошили чопорные английские леди и степенные джентльмены в твидовых пиджаках, методично лепящие снеговиков перед своими игрушечными коттеджами. Той зимой в британской столице выпало небывалое количество снега – сантиметров, наверное, пять, и энергичный лондонский мэр, похожий одновременно на клоуна и гомосексуалиста, решил таким экстравагантным способом бороться с возможными подтоплениями. Невозмутимые снеговики, которым недоставало разве что цилиндров и смокингов, простояли по дворам и дворикам несколько дней, а потом растаяли – вместе с уважением, которое Кир по ошибке испытывал к кельтской рассудительности и здравому смыслу. Примерно так же всё выглядело и в Брюсселе. Без помощи местного туристического агента Кир никогда бы не понял, зачем население маленькой безобидной страны, обвешавшись кинокамерами и фотоаппаратами, поголовно высыпало в парки и скверы и с увлечением наблюдает за перемещениями птичьих стай. Коллега объяснил ему, что таким образом его соотечественники подсчитывают количество перелётных птиц, гостящих у них по пути с юга на север. – Но это же невозможно, – искренне удивился Кир. – Ведь птицы не сидят на месте. Сейчас они здесь, а к вечеру окажутся где-нибудь в Шарлеруа... Они же перелётные... Бельгиец пожал плечами и снисходительно улыбнулся: – У нас демократическое государство, и люди делают, что хотят... Но по-настоящему толерантность этой страны к любым проявлениям человеческой глупости Кир понял, когда увидел знаменитого брюссельского мальчика, справляющего малую нужду в костюме Ярослава Мудрого. «Да уж, - подумал тогда Кир, стоя под сенью жовто-блакитного флага. – Если бы князь мог себе представить, на что сподобятся потомки тех, кого он хотел казнить и миловать справедливо и по совести, то не стал бы, наверное, торопиться со своей «Русской правдой» /5/.
...Вернувшись через несколько дней в Москву, Кир закончил стихотворение, дописав к нему последнюю, третью строфу. Шереметьевские «бомбилы», обычно хватающие прилетевших за рукава, на этот раз взяли незапланированный тайм-аут, и Кир основательно замёрз, пока добирался из аэропорта на перекладных. С трудом нащупав ключом замочную скважину, он щёлкнул выключателем в коридоре, вдохнул необжитые запахи часто пустующего жилья и подобрал на полу листок, исписанный знакомым, но почти уже позабытым почерком. Утром, добавив, чего недоставало, он наобум отправил письмо по старому Лериному адресу, веря и не веря в возможное чудо.
Чудеса, к сожалению, случаются редко. Если вообще случаются. Почта не найдёт адресата, и вернувшийся конверт с равнодушным фиолетовым штемпелем догонит Кира в захудалой белградской гостинице, где его группа задержится на несколько дней в ожидании хорошей погоды. Стоя у подёрнутого ранними сумерками окна, он растерянно повертит в руках натруженный символ бесполезных почтовых усилий, посмотрит, как с подвешенного к низкому небу моста соскальзывают на сырую брусчатку набережных крошечные автомобили, как нехотя разгораются в подступающей мгле изжелта-серые фонари. И всё, что он в этой жизни делал, на что надеялся и рассчитывал, покажется ему таким же далёким и бессмысленным, как давным-давно завершившаяся война за испанское наследство... /6/.
Впрочем, разочарование Кира продлится недолго – неделю спустя он умрёт от сердечного приступа в сонной глухой деревушке у подножья заснеженных Доломитовых Альп, где они планировали искать новые спуски для сноубордистов и горнолыжников, которым не хватало адреналина на изученных трассах. Больше всего в последние годы Кир боялся умереть в одиночестве. Пламенный некогда мотор /7/ пошаливал у него и раньше. К тому же, не так давно он обзавёлся апноэ – загадочным для него заболеванием, при котором люди во сне прекращают дышать. Ему представлялось: вот он ложится в постель – один в пустой необжитой квартире... Кто найдёт его остывшее тело? Когда? Да и станут ли вообще искать?.. В этом смысле ему повезло – он умёр на людях, в прокуренной деревенской траттории, под тяжелыми взглядами хмурых крестьян, забежавших пропустить рюмочку перед ужином. Зима в том году выдалась слякотной и холодной, и «скорая» никак не могла пробиться в это захолустье по снегу и гололёду. Пожилой деревенский фельдшер и испуганная молоденькая медсестра изо всех сил боролись за жизнь неожиданного пациента, но сил этих, видимо, оказалось не так уж и много. Единственное, что может служить хоть каким-нибудь утешением – то, что Кир никогда уже не узнает, насколько неправильно поступил, выпив в тот злополучный вечер лишний стакан забористой итальянской граппы. И поэтому совесть его будет чиста. А ведь это так важно – покидать мир с чистой совестью.
Лера никак не могла обо всём этом знать. Да и что изменилось бы, если б знала? К тому времени, когда Кир отправил ей свой невезучий конверт, она была далеко-далеко – и от старого адреса, и от прежней страны, и от прошлой жизни, в которой всё, наверное, могло сложиться иначе, но получилось так, как оно получилось. Вернувшись в Москву, она бросила свою конструкторскую контору, с нехарактерным для себя рвением взялась было за дизайнерские проекты, от которых раньше отказывалась, даже не обсуждая деталей, но потом поостыла и к ним и потихоньку сползла в прежнее полубогемное существование в кругу таких же непризнанных гениев и несостоявшихся художественных мессий. И хотя она по-прежнему и как будто бы даже с охотой участвовала в затеях, которые с определённой долей условности можно было называть творческими, что-то погасло в ней, окончательно и бесповоротно, растаяло и надломилось, как ломается крепкая вроде бы ветка под напором тяжёлых февральских ветров. И когда Лера почти уже опустила руки и перестала на что-либо надеяться, она вдруг обрела своё незатейливое женское счастье. Случилось это в крохотной полусонной республике, считавшейся в своё время едва ли не форпостом свободного мира, а затем превратившейся в глухие задворки цивилизации, посещаемые демократическими соседями исключительно по причине дешевизны пива и доступности плотских утех. В последние годы, сполна насладившись ненавистью к недавним согражданам и несолоно похлебавши общеевропейского благосостояния, независимые прибалтийские пуговицы /8/ вновь вспомнили русский язык, опять полюбили русские деньги и сделали вид, что по-прежнему интересуются культурой сопредельного теперь уже государства. Так что приглашение на этот довольно сомнительный в практическом смысле не то вернисаж, не то аукцион, устроенный для всё ещё подающих надежды художников какой-то местной благотворительной организацией, не показалось Лере очень уж неожиданным. На мероприятии было немноголюдно, но весело. Подавали бесплатное пиво, и невозмутимые официанты едва успевали доставать из-за выгоревшей бархатной занавески тяжёлые глиняные тарелки с бледными ломтиками тминного сыра, и от того, что в гулком полупустом зале было невыносимо холодно, все отчаянно жестикулировали и старались говорить громче. Пиво Лере не нравилось никогда. Стоя в сторонке от своих потерявшихся на стене акварелей, она мёрзла, как на улице, и бесполезно куталась в колючий негреющий шарф. У неё промокли ноги, тупо побаливала голова, и всё происходящее казалось бессмысленным и не имеющим к ней ни малейшего отношения. Может быть, ещё и поэтому она не сразу обратила внимание на немолодого и ничем с виду не примечательного мужчину в дорогом, но требующем косметического вмешательства костюме, изучавшего её явно заинтересованным взглядом.
Как попал на этот непрофильный для себя смотр художественных достижений удачливый голливудский продюсер Алекс Шольц, доподлинно неизвестно. Потом он множество раз рассказывал Лере, что ноги сами вели его по щербатой мраморной лестнице, мимо фальшивых атлантов и гипсовых кариатид, но Лера ему, конечно, не верила. Всё, чего Алекс в жизни добился, он получил благодаря настырности, трудолюбию и полному отсутствию каких бы то ни было предрассудков. Вырвавшись на первой, ещё советской, волне эмиграции из уснувшего сто лет назад Бердичева, он удивительно быстро преуспел на фабрике сладких целлулоидных грёз, потому что не отказывался ни от какой работы, на лету схватывал пожелания задёрганных вусмерть помрежей и на любое предложение чаще отвечал «да», чем «нет». Алекс всегда знал, чего хочет, отчётливо представлял, как этого добиться, и никогда не останавливался на полпути. И поэтому их роман получился не то чтобы бурным, но достаточно чувственным и возымел необходимые логические последствия.
Почему Лера согласилась стать женой этого самоуверенного мужчины с насмешливыми глазами и расползающейся от рыжей макушки лысиной, она до конца не поняла и сама. Но уже через месяц, миновав тёплые сквозняки лос-анджелесского аэропорта, она стояла на сверкающем краешке новой жизни, вроде бы заманчивой и красивой, но никогда не сдерживающей обещаний. Дорожная сумка с кистями и красками, десятком книг, парой незавершённых суматохе этюдов и прочей мало что значащей чепухой из прожитых десятилетий здорово оттягивала Лере плечо. Но Алекс уже спешил ей на помощь, энергично проталкиваясь сквозь толпу... Потом всё было, как в тумане: безлюдная по случаю отпусков мэрия, умиротворённый и довольный собой Алекс, равнодушный чиновник в тяжёлых очках, небрежно ткнувший пальцем туда, где следует расписаться. И пустота, навалившаяся вместе с пыльным запахом флердоранжа, пальмами, сочувственно кивающими от обочин, и ударившими в голову пузырьками шампанского, выпитого на капоте с видом на океан...
Лера, а теперь уже Валерии Шольц, непросто привыкала к своему новому статусу. И хотя Алекс с максимально возможной для него предупредительностью делал всё, чтобы смена обстановки и действующих лиц прошла для неё безболезненно, она всё равно вглядывалась по вечерам в лиловые сумерки и прислушивалась к низкому гулу самолётов, взлетающих откуда-то из-за горы. Но потом поняла, что у всех у них – другие маршруты, и мало-помалу настроилась на правильную волну. Теперь в этом новом блистающем мире /9/ Леру интересовало всё. Она с головой окунулась в продюсерские заботы супруга, бегала за ним по пыльным студийным павильонам, без конца просматривала какие-то сценарные заготовки и сосредоточенно высказывала абсолютно нереализуемые рекомендации. Алекс сдержанно улыбался, брал её за подбородок и мимолётно целовал в лоб, как любимого, но чересчур расшалившегося ребёнка. Лера не замечала его отеческой снисходительности и с нескрываемым удовольствием интриганки посещали полузакрытые кинопросмотры, всё увереннее держалась на чопорных официальных мероприятиях и научилась грациозно наклонять голову, когда к ней уважительно обращались «миссис Шольц». Она обзавелась новыми многозначительными знакомствами, усвоила специфические словечки и интонации, имеющие хождение в замкнутых голливудских кругах, и ощущала себя индуской, которой поставили над переносицей красное пятнышко /10/, когда под руку с Алексом шла по ковровой дорожке, ведущей в сладостный мир небожителей и кумиров. Но чем дальше Лера углублялась в его тёмные коридоры, тем быстрее осыпалась фальшивая позолота, и она всё отчётливее понимала, что эти мелочные вздорные люди мало чем отличаются от остальных и далеко не так счастливы, как хотят это показать, когда их серые усталые лица выхватываются из темноты беспощадными лучами софитов.
Нельзя сказать, что это открытие поразило Леру в самое сердце, но всё-таки заставило невесело улыбнуться. В жизни такое случается часто, и то, что издали представляется нам удивительным и достойным восхищения, при более пристальном рассмотрении оказывается всего лишь красивой обёрткой, под которой скрывается пустота. Не все к этому готовы, и порой люди чувствуют разочарование. Но ведь мы же не дети, увлечённо коллекционирующие пёстрые фантики от конфет, и должны делать из того, что происходит, соответствующие выводы. И всегда помнить о том, что если ты слишком долго вглядываешься в бездну, она начинает вглядываться в тебя... /11/.
...Как бы то ни было, но с некоторых пор Лера стала замечать в себе не очень радостные перемены. Она раздражалась по пустякам, без повода орала на гостиничных горничных, выговаривала Алексу, если он задерживался где-нибудь дольше обычного, и с трудом сдерживала неудовольствие, когда он оставался в номере на полдня. Алекс старался не замечать всего этого, сколько мог, а потом, отбарабанив пальцами на подоконнике какой-то бравурный марш, прямо спросил у неё, что случилось. Лера нервно расплакалась, зажгла сигарету, раздавила её в пепельнице и сказала: – Не обращай внимания. Всё пройдёт... Всё и на самом деле прошло, почти не оставив следов. А о том, что скрывается за этим «почти», Алексу знать было необязательно.
...Кроме того, что вся эта кинематографическая мишура оказалась до крайности утомительной, она ещё здорово мешала Лере обживаться на новом месте. Стыдно сказать, но дорожная сумка, сопровождавшая владелицу в путешествии через галактику, так и стояла не разобранной в дальнем шкафу, и когда Лера, смахнув лёгкую калифорнийскую пыль, расстегнула на ней молнию, в лицо ей дохнуло незабытыми запахами того, что никогда уже больше не повторится. Незнакомые комнаты не понимали, чего она хочет, и холодно наблюдали, как она ходит из угла в угол, не зная, куда положить книги и где пристроить папку с этюдами. В конце концов, сгрудив всё это на ковре у камина, Лера подошла к окну и долго смотрела вниз. Там, внизу, струилась привычная жизнь – пальмы с ленцой склонялись под ветром, машины ползли по серой ленте шоссе, беззащитные маленькие серфингисты взлетали над гребнем волны, как пёстрые шарики от пинг-понга. «Надо сказать Алексу, чтобы купил мне рабочий стол», – подумала Лера и задёрнула шторы. В этой давно устоявшейся, расписанной по чужим правилам жизни ей совсем не было места.
...Стол, купленный Алексом, никогда ничего не делающим просто так, оказался выше всяких похвал. Огромный, изготовленный из тёмно-красного, почти чёрного дерева, он выглядел иностранцем среди прочей населяющей комнату мебели и представлялся Лере плацдармом, захваченным горсткою храбрецов на вражеском берегу. Хотя, конечно, спасением для неё не стал. Лера поковырялась в голубоватом ночном пейзаже, кое-как довела до ума натюрморт с шампанским и персиками, и на этом всё завершилось. Ещё несколько раз она решительно подходила к столу, гладила его чёрную матовую поверхность, как будто искала сочувствия и поддержки, но ничего из этого не получилось. Стремительные пируэты карандаша никак не хотели выстраиваться в нужные контуры, а магическое акварельное волшебство не давалось в руки, проскальзывая между пальцами. Можно было бы, наверное, упереться, настоять на своём, как случалось ей делать раньше, но сейчас Лера не видела в этом ни малейшего смысла – известно ведь, что хорошие дети рождаются от любви, а насилие здесь не помощник... С чтением Лере повезло больше. Десяток затрёпанных томиков, переехавших из Москвы, и то, что нашлось в доме у Алекса, покупавшего иногда по старой памяти русские книги, – всё это помогало ей некоторое время держать оборону. Пока она отдавала должное Пастернаку, сопереживала Ахматовой и Цветаевой, следовала за Джеком Лондоном и скучала над Драйзером, ещё можно было как-то существовать. Но когда перечитанный в третий раз за полгода «Мартин Иден» /12/ вернулся на полку, Лера поняла, что долго так продолжаться не сможет. И тут опять ей на выручку пришёл Алекс. Зима у него выдалась хлопотная и многотрудная, он возвращался поздно и не всегда в правильном настроении, но в тот вечер всё складывалось благополучно. Он вошёл в комнату, неся перед собой запах сигар и хорошего виски, склонился над Лерой и по обыкновению поцеловал её в лоб, кольнув щёточкою усов. – Мы только что закончили фильм, – сказал он, протягивая ладони к камину. – И теперь неплохо бы отдохнуть... Что ты думаешь по этому поводу? – В общем-то, я не против, – ответила Лера. – А где? – Ну, это отдельный разговор, – улыбнулся Алекс. – Через пару дней всё узнаешь... И уже в пятницу они подлетали к Гавайям.
Старенький «боинг», кряхтя и поскрипывая, долго кружился над океаном, как будто выбирая место, где сесть, а потом так же неторопливо преодолевал длинную, поблёскивающую от дождя рулёжку. Лера, проспавшая всю дорогу, отстегнула ремень и выглянула в иллюминатор: погода не предвещала ничего хорошего, но судя по одежде тех, кто прятался под зонтами у здания аэропорта, было нехолодно. Пока они добирались до гостиницы, дождь перестал, и на небо выкатилось низкое предзакатное солнце, мешавшее Алексу разговаривать с администратором – как бы он ни повернулся, лучи находили его, перепрыгивая с оправы очков на позолоченный «паркер», и он недовольно насупливал рыжие брови. Когда же все формальности были завершены, и они поднялись к себе в номер, за окном полыхало до самого горизонта... Предусмотрительный, как и всегда, Алекс обо всём позаботился заблаговременно, и в порт они приехали налегке. Матросы заканчивали погрузку, не спеша переставляя с высокого пирса на борт ящики, мешки и коробки. Судя по их количеству, путешественники собирались, по меньшей мере, пересечь океан. У причалов было многолюдно, но на них никто не обращал внимания. Разве что стайка портовых нищих, непринуждённо расположившихся на ржавых кнехтах поодаль, время от времени поглядывала в их сторону, рассчитывая чем-нибудь поживиться от щедрот богатых туристов. «Нигде уходящим в море судам не устраивают таких проводов, как в гавани Гонолулу» /13/, – вспомнила Лера и улыбнулась. – Похоже, мы отправляемся в дальнее плавание, – сказала она, кивнув в сторону груза. – Тогда не хватает оркестра... – Кругосветку, пожалуй, нам не осилить, но пару-тройку архипелагов я тебе обещаю, – рассмеялся Алекс, с утра пребывающий в приподнятом настроении. – А про оркестр, извини, не подумал... По странному (а может, и нет) совпадению зафрахтованное Алексом судёнышко называлось «Снарк», и Лера, ни о чём не спрашивая, просто подумала про себя: «Дай бог, чтобы оно оказалось надёжнее своего предшественника» /14/. При оформлении фрахта Алекс настаивал на том, чтобы на борту было как можно меньше народу, и экипаж скомплектовали по минимуму: невозмутимо попыхивающий трубкой ирландец Джеймс, исполнявший функции капитана, и два матроса-полинезийца с удивительными именами – Кай и Келани, что на местном наречии означало «море» и «небо». Впрочем, потом выяснилось, что матросом был только первый, а второй отвечал в плавании за всё остальное – от чистоты палубы и приготовления пищи до порядка в бытовых помещениях. Паренёк оказался с ленцой, но весёлого нрава и не в пример более цивилизованным сверстникам любил не вездесущий отупляющий «рэп» /15/, а мягкую и мелодичную туземную музыку, оставляющую в душе ощущение праздника. И если Алекс сердился на его невинные выходки вроде подгоревшей каши на завтрак или забытой на палубе банановой кожуры, то Лера относилась к нему снисходительней. Особенно когда он, забавно коверкая слова, переводил для неё тягучим американизированным «суржиком» полинезийские песни, целыми днями доносящиеся из камбуза: «Aloha ‘oe, aloha’oe, E ke onaona noho і ka lipo...» – «До свиданья тебе, до свиданья, красавица, живущая под тенью ветвей...» /16/.
... Плавание протекало без приключений. «Снарк», не особенно напрягаясь и благодушно постукивая мотором, отсчитывал пустынные океанские мили, которые, послушно складываясь в сотни и тысячи, выводили их ко всё новым и новым архипелагам. Алекс сдержал слово, и Лера, не слишком внимательно следящая за маршрутом, лишь отмечала смену пейзажей и с интересом вслушивалась в непривычные для уха названия – Тахаа и Нуку-Хива, Уа-Хука и Раиатеа, Маркизские и Наветренные острова... Они зашли на Таити, прогулялись по пёстрым улочкам Папеэте /17/, не торгуясь, приобрели легкомысленные сувениры, которые все и всегда покупают здесь, а вечером, над бирюзовым свеченьем лагуны, Лера украсила волосы нежной звездой тиаре /18/ и впервые вдохнула его восхитительный аромат, который, как говорят, ни за что невозможно забыть. Но больше всего Лере нравились многодневные неспешные переходы, когда на сотни миль вокруг нет никакой земли, и ничто не нарушает покой великой голубой бездны. Разве что мелькнёт косой треугольник акулы или молодой, ничего не боящийся альбатрос, из чистого любопытства поднявшийся до этих широт, с плеском выхватит из-под гребня волны свою зазевавшуюся серебристую жертву, демонстрируя класс безупречной морской охоты. Лера даже не подозревала, что где-то на свете может быть так спокойно и хорошо. Опираясь спиною на тёплый фальшборт, она смотрела, как бьётся в волне за кормой сверкающая блесна, чувствовала рядом размеренное дыхание Алекса и ощущала себя если не Летицией Вайс /19/, то кем-то очень и очень на неё похожим. А потом, когда наступала ночь, обостряющая звуки и запахи, она выходила на палубу и чуть слышно шептала наклонившимся к ней незнакомым созвездиям: «Но тысячи глаз, поднимаемых к небу И в утренний час, и в вечерний, ненастный, На склоне ночном, не позволят погаснуть Звезде – самой яркой моей, Самой дальней... И вот – что же нужно ещё От звезды?..» /20/.
...Плаванье постепенно подходило к концу. Пополнив на острове Рождества запасы топлива и пресной воды, «Снарк», покачиваясь на лёгкой весёлой волне, повернул в направлении Гонолулу. В мире, по большому счёту, ничего не происходило. Океан как будто дремал, осторожно поворачиваясь под днищем, шторма обходили их стороной, а едва ли не ежевечерне проливающиеся дожди не доставляли особых хлопот, высыхая на палубе без всяких следов. К концу перехода Лера даже немного устала – от безграничности голубого пространства, редко меняющего оттенки, от усыпляющей качки с борта на борт или от носа к корме, от скудной походной пищи, хотя Келани делал всё, чтобы как-нибудь разнообразить надоевшее консервированное меню. Хорошо ещё, что Алексу посчастливилось как-то раз вытащить огромного марлина, который отчаянно бился на палубе, не понимая, как и за что его лишили привычной стихии, а потом Келани, пританцовывая от удовольствия, зажарил его каким-то особым полинезийским способом. Рыба показалась Лере не по-настоящему вкусной, а тёплый вечер, постепенно стирающий с неба закатные краски и полутона, и лёгкий солёный бриз, прилетевший, наверное, с противоположного континента, без устали добавляли ей впечатлений. Но всё равно, когда из-за горизонта всплыли мерцающие огни Гонолулу, Лера почувствовала облегчение.
...На следующее утро уже знакомый им «боинг» всё так же неторопливо вырулил на взлётную полосу, разбежался, с усилием преодолев притяженье земли, и заложил над островами широкий прощальный вираж. Лера проводила взглядом стремительно уменьшающиеся внизу разноцветные домики, крошечные белые яхты у длинных причалов и зелёные пятна кофейных плантаций, потом надвинула на голову наушники и закрыла глаза. На прощанье Келани записал на её мобильник свою любимую музыку, и до тех пор, пока она не заснула, в ушах у неё звучали мелодии, сопровождавшие их все эти долгие, ни на что не похожие дни: «O ka hali’a aloha i hiki mai, ke hone a’e nei i ku’u Manawa...A loko e hana nei», – «Сладкие воспоминания возвращаются, вновь принося мне привет из прошлого... Истинная любовь не покинет тебя никогда...».
В Лос-Анджелесе Алекс, не замечая ничего остального, с головой погрузился в работу, а Лера, опять ставшая миссис Шольц, бродила по дому, постепенно привыкающему к хозяевам, и не чувствовала ничего, кроме вновь подступающей пустоты. Одинаковые серые дни потекли перед ней, как маленькие неслышные волны. Она вела размеренную скучную жизнь на пологих калифорнийских холмах, лениво командовала сонной пуэрториканской прислугой, не понимающей ни одного языка, и категорически не появлялась на бессмысленных cocktail-party голливудского полусвета. Она давным-давно забросила свои дымчатые акварели, полюбила музыку «лаунж» и подолгу сидела в рассыпающем голубоватые тени патио, слушая «Pink Martini» или «Jazzamor» /21/ и рассеянно наблюдая поверх очков, как справляется с бирюзовой гладью бассейна сосредоточенная водомерка, делающая свою работу, несмотря на палящий послеполуденный зной. В такие минуты к ней решалась подходить разве что Бетси – единственная, наверно, живая душа, к которой Лера по-настоящему здесь привязалась. Падчерица равнодушного и самоуверенного Сан-Хуана, повидавшего гостей со всего света /22/, Бетси ещё в детстве, уворачиваясь от тумаков вечно недовольного жизнью отца и бегая в католическую воскресную школу, твёрдо решила стать человеком и никогда больше не возвращаться туда, где властвуют нищета и стаи голодных крыс. Она зазубривала на память ходовые английские фразы, училась у телевизора хорошим манерам, а вечерами, с трудом усмиряя горячую креольскую кровь, по сто раз подряд приседала в книксене перед треснувшим зеркалом, принесённым отцом с ближайшей помойки. Окончательным итогом всех этих усилий стала стройная смуглая девочка с тёмными внимательными глазами, чётко понимающая, на что она может рассчитывать в этой жизни, а на что – нет. Безукоризненно исполняя свои обязанности, она всегда возникала только в нужный момент, не стремилась проявлять нарочитое рвение и на любой вопрос держала под рукой три варианта ответов – «Да, мэм», «Нет, мэм», «Хорошо, мэм». В первое время такая манера здорово раздражала Леру, и как-то раз она спросила у Бетси: – Послушайте, милая, а вы вообще знаете другие слова? – Да, мэм, – моментально ответила девушка, а потом, задумавшись на секунду, поправилась. – Нет, мэм, – и улыбнулась, не отводя глаз. Лера посмотрела на неё долгим взглядом, потёрла наливающийся болью висок и решила всё оставить, как есть.
...Поначалу Алекс, считающий профессиональной обязанностью любить изменчивые вечерние пейзажи, никак не мог понять, почему Валери равнодушна к лос-анджелесским закатам, вывешивающим над дремлющими долинами свои эфемерные сполохи. Но со временем успокоился, перестал задавать необязательные вопросы и благоразумно принял это как данность, с которой ничего невозможно поделать. В конце концов, жизнь есть жизнь, и у жены тоже могут быть всякие безобидные слабости, которые ей нужно прощать. О прошлом Лера вспоминала всё реже, и ровный гул взлетающих самолётов больше не вызывал у неё никаких ощущений. Так, промелькнёт что-то мимолётное, неотчётливое, с размытыми краями, как на неудавшемся киносеансе, и всё – плёнка обрывается, проектор стрекочет впустую, нетерпеливые зрители встают и уходят, возвращаясь к обыденным делам и заботам. Лере уходить было некуда. И только однажды, прохладным осенним вечером, когда Алекса, как обычно, не было дома, она накинула на плечи шаль и спустилась вниз, к океану. Закат, несмело загоревшийся где-то над Санта-Моникой, чуть тронул дома вдоль бульвара Виста Дель Мар, дотянулся до Ньюпорт-Бич и там уже развернулся в полную силу, щедро раскрашивая золотом и кармином замерший от восхищения Оушен-Сайд. Лера стояла у кромки воды, ощущая подошвами податливую влажность песка, смотрела на это пиршество красок и чувствовала, как по щекам у неё текут слёзы – то ли от слишком ярких всплесков заката, то ли от чересчур близкого дыхания океана, то ли ещё от чего-то, что она не хотела бы никому объяснять... Лера дождалась, пока высохнут слёзы, ещё раз взглянула на тускнеющую над волнами позолоту и, больше не оборачиваясь, медленно пошла вверх по источенным солью ступенькам, поскрипывающим под её ногой. Бетси, простоявшая всё это время на краю террасы, смотрела, как она поднимается по лестнице, почти не касаясь гладких от ладоней перил, потом потушила в пепельнице сигарету, поправила и без того безупречный передник, включила в прихожей свет и замерла у дверей. Лера вошла в дом, обронив ей на руки шаль, тяжёлую от вечерней сырости, и Бетси не заметила в хозяйке никаких перемен. В гостиной горел камин, лениво облизывающий толстые дубовые чурбаки, и было тепло. В вазе на низком столике стояла цветущая ветка, чем-то напоминающая сирень, и от неё свежо и сильно пахло зелёными яблоками /23/.
_____________________________________
/1/ Кир очень бы удивился, если б узнал, что стало с могучей и полноводной рекой отечественной словесности. Она обмелела, затянулась ряской дурновкусия, заросла непроходимой коммерческой осокой и в конце концов превратилась в несколько жалких независимых ручейков, совершенно игнорирующих друг друга. Государство бросило литературу, как ветреный кавалер свою пассию. Писательские организации рассорились и обнищали, Литфонд приказал долго жить, а в знаменитом Доме писателей на Поварской пооткрывались разнокалиберные кабаки для бандитов и шлюх. Недавние корифеи и властители дум потихоньку отошли в лучший мир, и написанное много лет назад стихотворение Давида Самойлова сделалось актуальным, как никогда: «Вот и всё. Смежили очи гении. И когда померкли небеса, Словно в опустевшем помещении, Стали слышны наши голоса». Вот только голоса эти оказались не того диапазона и не той тональности. В результате сотрудники издательств и «толстых» журналов стали печатать самих себя, потом – своих приближённых, потом – приближённых своих приближённых. Ни для кого больше ни места, ни времени не оставалось. «Империя рождает литературу, а демократия – макулатуру», как грустно заметил Иосиф Бродский, наблюдавший за нашей новой жизнью через океан.
/2/ Послание к Коллосянам, гл. 3. Апостол Павел, рассуждая о нравственном облике истинного христианина, говорит, что он должен отказаться от «ветхого человека» в себе, то есть от извечных человеческих слабостей и пороков – гнева, лжи, злоречия, любостяжания – и духовно обновиться. Обычно это высказывание толкуется как декларация равенства всех людей между собою, но Павел ведёт речь о том, что только христиане равны в своей вере перед богом.
/3/ «Команда глубинного бурения» – так острословы времён застоя, используя эзопов язык, расшифровывали аббревиатуру КГБ – Комитета государственной безопасности.
/4/ Переосмысленная цитата из работы Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». В оригинале она звучит следующим образом: «...И пусть Европа – кладбище. Мы теперь уже знаем, что на том кладбище погребены не только люди, герои, но и боги. А у богов есть такое свойство, что и в гробах они сохраняют бессмертие, так что, сколько ни погребай их, никогда нельзя быть уверенным, что они действительно умерли... Когда же боги воскресают и выходят из своих могил, то «старые камни» соединяются в новые храмы, «осколки святых чудес» – в новые, живые чудеса». Здесь, видимо, Кир вспомнил о том, как относился к Европе Ф. М. Достоевский, утверждавший, что русские поклоняются её «старым святым камням» даже больше, чем сами европейцы. Фёдор Михайлович писал об этом много раз и в самых разных местах – от «Дневников писателя» до романа «Братья Карамазовы». Но Европа, как убедился Кир, давно уже не та. И хорошо ещё, что он так и не добрался до Парижа – иначе был бы потрясён до самых основ, увидев донельзя обезображенную мультикультурализмом духовную мекку русского человека, больше напоминающую теперь не французскую, а арабскую столицу. Д. С. Мережковский (1866-1941) – русский писатель, поэт, критик, переводчик, историк, религиозный философ, один из основателей русского символизма, ярчайший представитель Серебряного века – эпохи в истории нашей культуры, хронологически связываемой с началом ХХ века и совпавшей с расцветом модернизма. Для неё характерно возникновение в обществе широкого слоя просвещённых любителей искусств, многие из которых впоследствии сами становились профессионалами, а другие составляли великолепную, заинтересованную аудиторию из зрителей, слушателей, читателей, критиков.
/5/ Описываемые здесь события действительно имели место в Великобритании и Бельгии в 2011-2012 гг. Ярослав Мудрый (ок. 978-1054) – великий князь Киевский, сын крестителя Руси Владимира Святославича и полоцкой княжны Рогнеды Рогволодовны, отец, дед и дядя многих европейских правителей. Составленная при нём «Русская правда», содержащая нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства, стала первым известным сводом законов на Руси.
/6/ Кир с детства интересовался историей и неплохо знал её – насколько это, конечно, возможно в стране с непредсказуемым прошлым, как называют иногда СССР. Впрочем, это определение смело можно отнести к любому государству мира – историческая наука всегда (и, наверное, вполне справедливо) считалась слугой всех господ. Но Кир относился к истории серьёзно, и иногда ему в голову приходили достаточно неожиданные параллели. В данном случае крупный европейский конфликт, длившийся с 1701 по 1714 год, вспомнился ему как символ чего-то давнего и совершенно не имеющего к нему отношения.
/7/ Написанный в 1923 году «Авиамарш», более известный как «Марш авиаторов», был официальным гимном Военно-воздушных сил СССР и часто исполнялся на парадах и в других соответствующих ситуациях. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор, Нам жизнь дала стальные руки-крылья, А вместо сердца – пламенный мотор...» - Кир знал, что когда-то эти жизнеутверждающие слова распевала вслед за репродукторами вся огромная страна, в которой ему посчастливилось родиться. Ему вообще нравилась та эпоха – Осоавиахим, сверхдальние перелёты, грандиозные стройки, равных которым не знал мир, искренний, несмотря на бедность и трудности, всех объединяющий энтузиазм. И поэтому он вполне соглашался с героем фильма «Мой друг Иван Лапшин», говорившим: «А я марши люблю. Потому что в них – молодость нашей страны»... «Марш авиаторов» был популярен в СССР до самых последних его дней. Невзирая даже на то, что, переведённый в своё время на немецкий, он широко распространился в Германии в качестве нацистского марша «Herbei zum Kampf»...
/8/ «Прибалтийскими пуговицами» назвала в 1919 году Латвию, Литву и Эстонию жена Д. Мережковского Зинаида Гиппиус (1869-1945) – поэтесса и писательница, драматург и критик, видная представительница Серебряного века, мадонна русского декаданса. Она вообще никогда не лезла, как говорится, за словом в карман. Чего стоит хотя бы её горькое и безусловно сбывшееся пророчество: «...И в грязный хлев ты будешь загнан палкой, Народ, не почитающий святынь!».
/9/ «Блистающий мир» (1924) – роман Александра Грина (1880-1932), русского и советского писателя, создавшего вымышленную страну «Гринландию», населённую по преимуществу светлыми, мужественными, любящими друг друга людьми. Добро в ней в конечном итоге всегда побеждало зло, а подлецы и предатели получали то, что заслуживали. Лера, конечно, понимала, что в реальной жизни чаще всего случается наоборот, но было искренне благодарна Грину за стремление показать, как должно выглядеть счастье.
/10/ Выходя замуж, женщина-индуска рисует себе на лбу, чуть повыше переносицы, бинди – небольшой красный кружок, свидетельствующий об изменении её социального статуса.
/11/ Неточная цитата из книги Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего». Фридрих Вильгельм Ницше (1844-1900) – немецкий мыслитель, филолог, композитор, создатель оригинальной философской доктрины, многие постулаты которой легли в основу национал-социалистической идеологии. Последние полтора года жизни провёл в психиатрической лечебнице. В СССР работы Ницше не издавались, но ко времени взросления Кира запреты были сняты, и он смог с ними познакомиться. Не то чтобы сумрачные ницшеанские умозаключения особенно его впечатлили, но кое-какие идеологемы и максимы Кир для себя отметил.
/12/ «Мартин Иден» (1909) – роман американского писателя Джека Лондона (1876-1916), в известной мере автобиографический. В центре повествования – судьба простого парня «из низов», сумевшего ценой титанических усилий стать популярным писателем, подняться по социальным ступеням, а потом, разочаровавшись в былых идеалах, покончившего с собой. В книге немало антибуржуазных выпадов и смутных социалистических симпатий; интересно и то, что серьёзное влияние на формирование взглядов главного героя оказали теории Ф. Ницше и – особенно – Г. Спенсера, вообще очень почитаемого Джеком Лондоном. Герберт Спенсер (1820-1903) – английский философ и социолог, один из основоположников эволюционизма, создатель органической школы в социологии, идеолог либерализма. В конце XIX века его идеи пользовались широкой популярностью.
/13/ Начало рассказа Дж. Лондона «Алоха Оэ» (1908). К прозе этого американца Лера пристрастилась случайно – просто в домашней библиотеке Алекса оказалось много его книг. Тем не менее, Лондон ей понравился, а кое-какие мысли она даже выписала в своеобразный дневник, который от нечего делать начала вести в Калифорнии. Среди них оказалась и такая: «Сильнейший из побудителей на свете – это тот, который выражается словами: так мне хочется. Он лежит за пределами философствования – он вплетён в самое сердце жизни... Хочу – это причина, почему пьяница пьёт, а подвижник носит власяницу; одного она делает развратником, а другого анахоретом; одного заставляет добиваться славы, другого – денег, третьего – любви, четвёртого – искать бога. А философию человек пускает в ход по большей части только для того, чтобы оправдать своё «хочу». («Путешествие на «Снарке»). Лера долго думала над этой фразой и решила, что Джек Лондон, наверное, прав – по крайней мере, применительно к ней самой.
/14/ Точно так же назывался двухмачтовый парусно-моторный кеч, на котором весной 1907 года Джек Лондон с женой Чармиан и небольшим экипажем отправился в плавание по южной части Тихого океана, описанное затем в повести «Путешествие на «Снарке» (1911). Несмотря на то, что на строительство ушло больше полутора лет и тридцать тысяч долларов (огромные по тем временам деньги), «Снарк» оказался весьма ненадёжен и имел массу проблем, которые обнаружились сразу же по выходу из Сан-Франциско и испортили Дж. Лондону и его жене большую часть плавания.
/15/ Рэп – направление в молодёжной музыкальной субкультуре, зародившееся в 1970-х годах в афроамериканских кварталах нью-йоркского района Бронкс; характеризуется крайне невзыскательным художественным уровнем. Поскольку исполнителю-рэперу не нужно ничего, кроме чувства ритма и определённой пластики движений, рэп приобрёл в мире необычайную популярность, и к сегодняшнему дню развелось великое множество безголосых, плохо образованных и нахрапистых молодых людей, всерьёз считающих себя композиторами, поэтами и певцами и имеющих – что самое, пожалуй, печальное – довольно обширную аудиторию.
/16/ Здесь и далее цитируется самая известная песня последней королевы Гавайев Лилиуокалани, ставшая культурным лейтмотивом этих островов.
/17/ Папеэте – расположенная на Таити столица Французской Полинезии, довольно крупный по меркам региона город.
/18/ Тиаре, тли гардения таитянская. Цветок этого растения, расположением лепестков напоминающий звёздочку, давным-давно стал символом Французской Полинезии, и любая туристка, хоть раз побывавшая там, обязательно украшала им свои волосы. А мировую известность ему принесла картина Поля Гогена «Женщина с цветком», где изображена именно гардения. Эжен Анри Поль Гоген (1848-1903) – французский художник, скульптор-керамист и график, крупнейший представитель постимпрессионизма. Последние годы жизни провёл в Полинезии – сначала на Таити, а потом – на Хива-Оа (Маркизские острова), где и умер в безвестности и нищете. Слава, как это часто бывает в мире искусства, пришла к нему после смерти, когда в 1906 году в Париже были выставлены 227 его работ. Влияние, оказанное творчеством Гогена на живопись ХХ века, бесспорно.
/19/ Летиция Вайс – героиня фильма французского режиссёра Роббера Энрико «Искатели приключений» (1967), трагической мелодрамы о жизни и смерти трёх друзей-неудачников, которым судьба вроде бы улыбнулась, а потом отняла у них всё. Красивая история о дружбе и любви, о верности и преданности и ещё о чём-то, что невозможно выразить словами, моментально стало культовой для романтически настроенной молодёжи в СССР. Лера, видимо, вспомнила, как однажды они с Киром смотрели этот фильм на старом видеомагнитофоне его родителей.
/20/ Отрывок из стихотворения Кира, подаренного когда-то Лере.
/21/ Популярные музыкальные коллективы, работающие в стиле «лаунж».
/22/ Сан-Хуан – столица Пуэрто-Рико, небольшого островного государства, практически полностью подконтрольного Соединённым Штатам. Главный перекрёсток всех туристических маршрутов, проложенных по Карибскому региону.
/23/ Скорее всего, Бетси поставила в вазу ветку лаврового сумаха, или малозмы – типичного для Южной Калифорнии кустарника с округлыми вечнозелёными листьями, похожими на лавровые. Цветы малозмы действительно напоминают сирень и издают сильный запах зелёных яблок.
|
 Ингвар Коротков. "А вы пишите, пишите..." (о Книжном салоне "Русской литературы" в Париже) СЕРГЕЙ ФЕДЯКИН. "ОТ МУДРОСТИ – К ЮНОСТИ" (ИГОРЬ ЧИННОВ) «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова в Луганске Павел Банников. Преодоление отчуждения (о "казахской русской поэзии") Прощание с писателем Олесем Бузиной. Билет в бессмертие... Комментариев: 4 НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "СЕБЯ Я ЧУВСТВОВАЛ ПОЭТОМ..." МИХАИЛ КОВСАН. "ЧТО В ИМЕНИ..." ЕВГЕНИЙ ИМИШ. "БАЛЕТ. МЕЧЕТЬ. ВЕРА ИВАНОВНА" СЕРГЕЙ ФОМИН. "АПОЛОГИЯ ДЕРЖИМОРДЫ..." НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "ПОСЛАНИЯ" Владимир Спектор. "День с Михаилом Жванецким в Луганске" "Тутовое дерево, король Лир и кот Фил..." Памяти Армена Джигарханяна. Наталья Баева. "Прощай, Эхнатон!" Объявлен лонг-лист международной литературной премии «Антоновка. 40+» Николай Антропов. Театрализованный концерт «Гранд-Каньон» "МЕЖДУ ЖИВОПИСЬЮ И МУЗЫКОЙ". "Кристаллы" Чюрлёниса ФАТУМ "ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ". К 140-летию музыковеда Леонида Сабанеева "Я УМРУ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ..." К 50-летию со дня смерти Николая Рубцова «ФИЛОСОФСКИЕ ТЕТРАДИ» И ЗАГАДКИ ЧЕРНОВИКА (Ленинские «нотабены») "ИЗ НАРИСОВАННОГО ОСТРОВА...." (К 170-летию Роберта Луиса Стивенсона) «Атака - молчаливое дело». К 95-летию Леонида Аринштейна Александр Евсюков: "Прием заявок первого сезона премии "Антоновка 40+" завершен" Гран-При фестиваля "Чеховская осень-2017" присужден донецкой поэтессе Анне Ревякиной Валентин Курбатов о Валентине Распутине: "Люди бежали к нему, как к собственному сердцу" Комментариев: 1 Эскиз на мамином пианино. Беседа с художником Еленой Юшиной Комментариев: 2 "ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ..." ВАЛЕРИЙ АВДЕЕВ ТАТЬЯНА ПАРСАНОВА. "КОГДА ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО" ОКСАНА СИЛАЕВА. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ Сергей Уткин. "Повернувшийся к памяти" (многословие о шарьинском поэте Викторе Смирнове) Александр Балтин. "Два двухсотлетия: Достоевский и Некрасов" "Идеи, в слово облеченные..." Памяти Валентина Курбатова "РУССКИЙ ХРИСТОС ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА". К 80-летию со дня рождения поэта "КАК АНГЕЛА РАСПЕЧАТЛЕТЬ..." К 190-летию со дня рождения Николая Лескова |



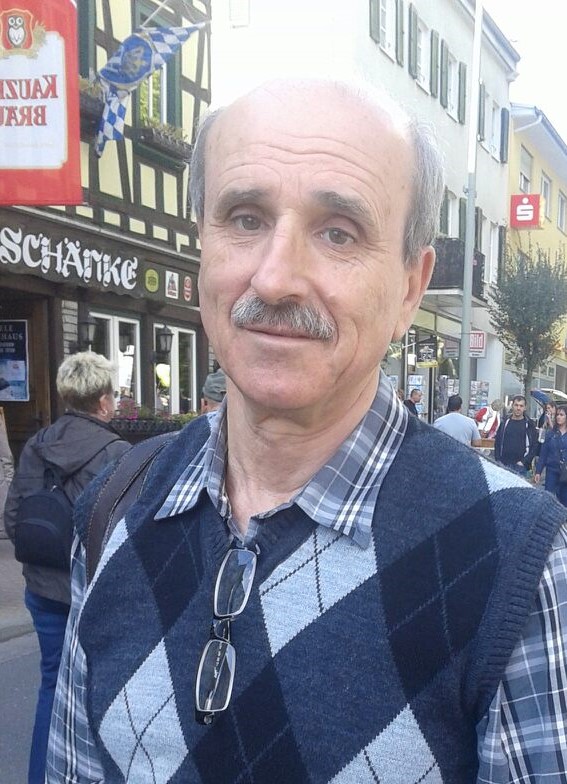



.jpg)






Санкт-Петербург