.jpg) ДМИТРИЙ КАННУНИКОВ. "Толерантность, или ..." СЕРГЕЙ СОБАКИН. ГРИГОРИЙ-"БОГОСЛОВ" СНЕЖАНА ГАЛИМОВА. ТОНКИЙ ШЕЛК ВРЕМЕНИ ИРИНА ДМИТРИЕВСКАЯ. БАБУШКИ И ВНУКИ Комментариев: 2 НАТАША КИНУГАВА."Игрушечный январь" АНФИСА ТРЕТЬЯКОВА. "О РУСЬ, КОМУ ЖЕ ХОРОШО..." Комментариев: 3 АЛЕКСЕЙ ВЕСЕЛОВ. "ВЫРОСЛО ВЕСНОЙ..." МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВА. "И ВСЁ-ТАКИ УСПЕЛИ НА МЕТРО..." ВАЛЕНТИН НЕРВИН. "КОМНАТА СМЕХА..." НИНА ИЩЕНКО. «Русский Лавкрафт» АЛЕКСАНДР БАЛТИН. ПОЭТИКА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ: ПРОГУЛКИ ПО КАЛУГЕ "Необычный путеводитель": Ирина Соляная о книге Александра Евсюкова СЕРГЕЙ УТКИН. "СТИХИ В ОТПЕЧАТКАХ ПРОЗЫ" «Знаки на светлой воде». О поэтической подборке Натальи Баевой в журнале «Москва» СЕРГЕЙ ПАДАЛКИН. ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ. «ЧТО ЗА ПОВЕДЕНИЕ У ЭТОГО ВИДЕНИЯ?» МАРИНА БЕРЕЖНЕВА. "САМОЛЁТИК ВОВКА" НАТА ИГНАТОВА. СТИХИ И ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАТАЛИЯ ВОЛКОВА. "НА ДВЕ МИНУТКИ..." Комментариев: 1 "Летать по небу – лёгкий труд…" (Из сокровищницы поэзии Азербайджана) ПАБЛО САБОРИО. "БАМБУК" (Перевод с английского Сергея Гринева) ЯНА ДЖИН. ANNO DOMINI — ГИБЛЫЕ ДНИ. Перевод Нодара Джин АЛЕНА ПОДОБЕД. «Вольно-невольные» переводы стихотворений Спайка Миллигана Комментариев: 3 ЕЛЕНА САМКОВА. СВЯТАЯ НОЧЬ. Вольные переводы с немецкого Комментариев: 2 |
Просмотров: 0
27 November 2020 года
УЕЗЖАТЬ И ВОЗВРАЩАТЬСЯ
В жизни всё гораздо иначе, чем кажется поначалу. Где я это услышал, от кого — мне невдомёк. Когда-то эта фраза казалась мне легковесной и бессмысленной. Шутка такая, к бабке не ходи. И только со временем я обнаружил, что шутками тут и не пахнет. Мы часто ошибаемся, торопясь дать оценку событию или человеку какому, и только позднее всё переворачивается с ног на голову, и то, что мы поначалу оценивали вот так, на самом деле надо принимать вот эдак. Или гораздо иначе, как и сказано в той самой фразе. У меня на этот счёт уже скопился кое-какой опыт. Вот я вам расскажу сейчас. Бывают случайные встречи, которые врезаются в память навсегда. Сколько будешь жить, столько и вспоминать. Не выветривается, а сохраняется где-то в закоулках памяти. Эта история приключилась несколько лет назад. В лесном краю, куда меня направили. Глушь. Самая настоящая. Сквозь зелёное лесное царство, прорезая его из конца в конец, с запада на восток, проложена железнодорожная магистраль. Вот там жизнь и кипит. А от одной из станций, которая зовётся Шелемаха, уходит на север одноколейный путь. Триста километров в одну сторону. Безлюдье. Жильё там встречается редко-редко. И когда едешь — всё время за окном лес, лес, лес. Глушь, я же говорю. И так до самого Октябрьского. А как в Октябрьское приехал — всё, выходи. Тупик. И поезд дальше не идёт. Поезд здешний называется мотаня. Так, видно, местные придумали. Вообще он на самом деле Шелемаха—Октябрьское. Но вот мотаня — и всё. Спрашивал я у тамошних жителей, что за название такое. Точного ответа нет. Одни говорили, что поезд этот мотается от Шелемахи до Октябрьского и обратно, туда-сюда-туда-сюда. Вот и мотаня, мол. А другие говорят, что раскачиваются вагоны на старой колее, где шпалы ещё сохранились деревянные, мотаются с боку на бок, будто переваливаются — так что мотаня. Ну, нехай будет так, как говорила моя бабушка. В мотаню в тот день я сел в Шелемахе. Состав стоял на дальнем пути. Что правильно. С глаз долой. Вид у состава был – «Позор РЖД», как у нас порой шутят. Вагоны старые, хотя и покрашены не так давно. А красили их, видно, наспех, не ободрав старую краску. Так что там, где она когда-то обвалилась кусками, новая краска, конечно, легла, да выемки-то на боках вагонов остались, отчего вагоны эти напомнили мне тех несчастных, что переболели оспой — такие же у них негладкие, в ямках, лица, как бока у этих вагонов. Ржавчина цвета крепкого чая проглядывала там и тут. Окна в чёрной саже и потёках. Мотаня — одно слово. Гуднул за спиной приближающийся поезд. Я обернулся и увидел стремительно летящего к станции красавца. Первый скорый. «Россия». Фирменный. Владивосток — Москва. Он как летел, так и не сбавил даже хода. Не останавливался в Шелемахе никогда. Прожектор локомотива слепящим лучом пронзал неплотные морозные вечерние сумерки. Красивые новенькие вагоны пронеслись мимо меня серо-красной ракетой, только и промелькнули освещённые окна, а лиц счастливчиков не разобрать — такая скорость была. Последний вагон на мгновение окатил меня красным светом фонарей, да и потускнели они сразу, потому что скорый поднял за собой такую пургу, будто туман какой на землю опустился, не иначе. Я когда-то роман читал. «Золотой телёнок». Там жулик один по фамилии Бендер с дружками прятался в придорожной канаве, а мимо в темноте мчались машины, участвующие в автопробеге. И вот мне почему-то запомнилась такая фраза: «Настоящая жизнь пролетела мимо». Вот прямо как сейчас мимо меня. Проводница стояла у вагона, пританцовывая. Проводницу в ней признать было трудно. Старое вытертое пальто в крупную клетку, грязно-серый пуховый платок, повязанный так, что он скрывал почти всё лицо, только глаза и выглядывали настороженно, да валенки, явно большие для этой женщины. Так выглядят торговки на базарах в маленьких российских городках. Я поздоровался и сказал шутливо: - А я думал — пассажирка. В таком пальто и в валенках. - Ага. Потеплело у нас. Аж до двадцати пяти мороза, - окатив меня посмурневшим взглядом, ответила проводница. - Так я валенки сниму, пожалуй. Всё ж таки жара. Билет она проверять не стала. Я поднялся в вагон. Внутри он, понятное дело, не смотрелся лучше, чем снаружи. По одной едва живой лампочке светились в служебном отделении и в малом коридоре, что перед ним, а дальше тянулся почти полностью тёмный большой коридор, в конце которого из-за стекла двери пробивалось тусклое свечение. Дверца кипятильника оторвана. Шторок на окнах нет. И запах, который бывает только в старых вагонах. Смесь «ароматов» сгоревшего угля, грязных матрасов, дешёвой дорожной еды и дыхания десятков разновозрастных людей. В первом же пассажирском отделении, сразу за купе отдыха проводника, я увидел двух мужчин — крепкого располневшего мужика в возрасте сильно за сорок, и тщедушного старика с лысой головой и острым, похожим на клюв, носом. Они молча сидели на нижних полках напротив друг друга. И ещё были две женщины, эти через проход. - Не возражаете? - спросил я у мужчин. - Доброго вам вечера. Я забросил свою полупустую сумку на верхнюю полку. Сел рядом со стариком. Если бы не окно, из-за которого пробивался в мрак вагона неяркий свет от далёкого здания вокзала, мы и не видели бы друг друга. - Вечер будет добрый, - с большим запозданием сообщил мне сидящий напротив мужчина. Как будто пообещал. Голос у него был низкий, что очень ему шло — при его комплекции. Такие люди говорят неспешно, каждое их слово имеет вес, и они словно напоказ упиваются своей значительностью, не всегда чем-либо подтверждаемой, но лично ими воспринимаемой как данность. Не люблю таких. От них только притеснения и плохое настроение. У нас Башмыхин таков. Как скажет что — мурашки у меня по коже. Было бы куда уйти — я уволился бы с превеликим удовольствием. Хотя этот попроще, чем Башмыхин. Стрижен коротко, под ёжик. И толстая золотая цепь на шее. Либо хозяин двух-трёх магазинчиков на городском рынке. Либо лесопилку держит где-то здесь, к примеру. - Как имя-отчество Ваше, любопытствую я, - произнёс мой попутчик так, как и вправду наш Башмыхин мог бы спросить. Вот представьте: кабинет большой, в нём стол размером в два таких отделения, как то, в котором мы сейчас поедем, к нему ещё один приставлен так, что буква Т получается, если сверху на него взглянуть, и где-то там, далеко от тебя, за столом сидит Башмыхин, и тебе что- нибудь говорит или спрашивает, допустим. И вот если спрашивает — так сердце сжимается, будто ты и не в кабинете начальника, а перед следователем, и каждое оброненное им слово — год тюрьмы тебе. «Фамилия, имя, отчество», - скажет следователь. Три года. Так и с Башмыхиным. Вроде, обычные слова у него. А не забалуешь. Я замялся с ответом, а попутчик мой повторил с нажимом: - Имя-отчество, в смысле. - Александр Александрович, - ответил я. И зачем соврал? Ну, чего такого здесь? Хорошо ещё, что темно было. Лица моего не разглядеть. А то ведь взгляд метнулся мой, ага. Мотаня наша тронулась. И не так уж незаметно. Вагон дёрнулся, отчего скрипнул, будто мебель старая. Поплыло за окном здание вокзала. - Поехали, - шепнула одна женщина другой. Они смотрели за окно, а там потемнее было, чем с нашей стороны. Пришла проводница. Буркнула едва различимо: - Билеты! С женщин тех начала. - А меня Пётр Тимофеевич сталбыть, - сказал сосед. Представился. - Такое имя дадено при рождении. Проводница повернулась к нам, молча протянула руку за билетами. Я свой отдал ей, и Пётр Тимофеевич со стариком тоже. - Свет будет? - спросил у проводницы мой сосед. Она ушла, будто и не слышала. - Не в духе женщина, - произнёс Пётр Тимофеевич таким тоном, что я подумал о близком скандале. Вроде как угроза даже в его голосе угадывалась. Мотаня, поскрипывая на промёрзших стрелках, выкатилась со станции. Здесь фонари уже и не попадались. Только светились заледеневшие окна одноэтажных деревянных домов, да фары редких автомобилей позволяли на мгновения увидеть, как в стылом воздухе поднимаются вертикально дымы из печных труб. - Живёте здесь сталбыть, - сказал мне сосед. Я неопределённо пожал плечами, чтобы ничего не объяснять. Но от этого сталбыть так просто не отвяжешься. - В Шелемахе самой? - уточнил он. - Нет, - односложно ответил я. - А где ж тогда? - обронил веско. Ну, точно — как следователь. - До Октябрьского еду. - Далеко забрались, - оценил сталбыть. - А Вы — ближе? - спросил я, чтобы не прослыть молчуном. - Ближе, да. Значит, ещё до Октябрьского сойдёт. Оно и к лучшему. Не располагает он к себе. Тяготит. Вот дедок этот молчаливый, что со мною рядом, правильно себя повёл. Молчит и вроде как ни при делах. Будто стеной от нас отгородился. Так спокойнее, конечно. Мудрый дед. Шелемаха закончилась скоро. Взглянув в очередной раз в окно, я не увидел никаких огней, а одну только темноту. Ночь уже наступала. Ранняя зимняя ночь. Я всмотрелся в эту тьму и с трудом различил неширокую светлую полосу снега сразу внизу под окном и за полосой — чёрную стену близко подступающих деревьев. Каждое дерево по отдельности было не разобрать. Говорю же — стена сплошная. Прошла мимо нас собравшая билеты проводница. - Это очень значительно — где живёшь и где родился, - сказал сталбыть. - От местности всё зависит. Женщины по соседству прислушивались, но старательно делали вид, будто разглядывают что-то за окном. - Я уехал из деревни тридцать год назад сталбыть. Ни разу туда не возвернулся. А помнил завсегда. Там дом. Там всё своё. И родители там схоронены. И вся родня. - Сиротой уехали? - спросил я необдуманно. - Отчего это сиротой? - Ну, уехали. И не возвращались ни разу… Я осекся на этих словах, обнаружив свой промах. - Не смог приехать, - сказал Пётр Тимофеич, сильно помрачнев. То ли на себя серчал, что проговорился, то ли на меня, что я распознал. Родители его умерли, а он никого из них хоронить не явился. Неловкость какая-то приключилась. Видимо, и сталбыть это заметил и от меня отстал. Переключился на деда лысого. - Чайку попьём с мороза, штоль? Они вместе едут? А сразу я и не сказал бы. Дедок ничего не ответил. Его согласия, наверное, и не требовалось. Сталбыть сам знал, что делать и когда. Он поднялся со своей полки и пошёл к проводнице. Теперь обнаружилось, что он сильно хромает на правую ногу, прямо-таки волочит её. Я слышал, как он произнёс своим низким голосом: - Нам бы чаю, хозяйка. - Вон кипяток. - А чай? - А чая нет! - сухо отрезала проводница. - И сахару нет! - Везде бывает в поездах, а тута — што? - Так то в поездах. А «тута» мотаня! Мотаня, стало быть — диагноз. Понятные дела. - Непорядок, сталбыть. Железная дорога. Это не цирк какой. На это проводница промолчала. - А в других вагонах — што? Есть чай там? И снова молчание в ответ. Вот у меня в сумке были и сахар, и чай, и даже кофе. - Жалобу напишу,- посулил сталбыть. Я поднялся с полки и направился к нему. Сталбыть стоял у открытой двери служебного отделения и был мрачнее тучи. Я бросил взгляд через его плечо. Проводница стояла к нам спиной. В платке, но уже без клетчатого пальто. - Как же без чая пассажиров везёте до самого утра? - сказал я в эту спину. И мне тоже не ответила. Тут в коридоре послышались шаги. - Позвольте! - услышал я мужской голос. Тоже проводник. Но в форме. Лицо с усами. Выглядел солидно. Он зыркнул в наши лица быстрым оценивающим взглядом. - И у вас в вагоне тоже чаю нет? - спросил у него мой попутчик. - Чего же нет? - не согласился усатый, и в нём сразу угадался начальник поезда. - Это железная дорога! Чай есть всегда! - отчеканил он. - У нас вот нету. - Как - «нету»?! - непритворно изумился усатый и воззрился на нашу проводницу. Что-то такое он в ней вдруг разглядел, что тут же сказал нам: - Вы на свои места пройдите, очень вас прошу. Чай будет сию секунду! Выпроваживал нас. - И свет! - потребовал Пётр Тимофеевич. - Темно, как в лесе! - И свет будет, а как же. Мы ещё только направились к своим полкам, а в служебном отделении защёлкали переключатели пульта управления и в большом коридоре вспыхнули лампы. При их свете я снова обратил внимание на то, как волочит ногу сталбыть. В служебном отделении слышался торопливый шёпот. Потом загремело стекло стаканов. И вскоре усатый лично появился, держа в каждой руке по два стакана в потёртых и повидавших многое серебристых подстаканниках. - А вот и чай! - произнёс он доброжелательным тоном. - Железная дорога! Чай есть всегда! Вроде как с гордостью сказал. Опустился на полку рядом с Петром Тимофеевичем, но прежде осведомился: «Не возражаете?» Нас было трое, а он четвёртый. Вот почему четыре стакана чаю. - Далеко направляетесь? - полюбопытствовал усатый, завязывая беседу. - Покровские мы, - первым ответил сталбыть. - Все трое? - уточнил усатый. - Я до Октябрьского еду, - сообщил я. - По работе? Или как? - уточнил усатый и тут же спохватился. - Да вы чаёк пейте! - Так, - пожал я плечами. - По надобности. Мой собеседник отхлебнул чай из стакана. На его усах повисли капли. Он тут же промокнул их свежим, тщательно отутюженным носовым платком. Хотел ещё о чём-то спросить, но тут вмешался сталбыть. - На Покровке остановка есть? - Нет, - ответил начальник поезда. - И в кассе мне сказали, что нет. Как так? - А вот так, - вполне доброжелательно ответил усатый. - Годов пятнадцать уж как отменили. - А как же люди? - Нет там людей. - В Покровке нет людей? - не поверил сталбыть. - Нету. Совсем. Ни одного человека не осталось. - Да как же так?! - изумился Пётр Тимофеевич. Он уезжал оттуда тридцать лет назад и запомнил свою Покровку обитаемой. Все эти тридцать лет такой её и видел в мыслях. Не пришло ему в голову, что ничего не бывает вечного. И вот теперь он ехал, изумлённый. Это домой хорошо возвращаться. А он возвращался в никуда. Если нет там никого, то как это зовётся? Не позавидуешь ему. Мотаня замедляла ход. - Извиняйте! - сказал усатый и поднялся. - Погутье. Первая остановка. - Спасибо Вам, - поблагодарил я. - И свет нам сразу организовали. И чай. Да ещё в таких роскошных подстаканниках. - «При раздаче чая стаканы необходимо устанавливать в подстаканники». Пункт 9.3 Распоряжения от 24.05.2007 года номер 959р, - отчеканил усатый. Служака. У такого проводники по струнке ходить будут. Усатый поднялся, застегнулся на все пуговицы и удалился, лишившись признаков недавнего благодушия. - Знает, видно, службу, - оценил я. Пётр Тимофеевич и не слышал меня, казалось. Смотрел невидяще в пространство перед собой и вид имел расстроенный. Остановка в крохотном Погутье была короткой. Минуты две или три. Людей было мало. В наш вагон поднялись двое, прошли по коридору, оставляя за собой шлейф выстуженного воздуха. Состав тронулся и почти сразу мы Погутье оставили где-то в ночи. - Я сталбыть уехал из Покровки, а там ещё было двадцать дворов, - произнёс Пётр Тимофеевич задумчиво. - И не одни тока старики, вишь какое дело. Молодёжь была. Мне сталбыть двадцать годов, тока отслужил. За окном вагона была непроглядная чернота. Ни зги не видно. Мотаня катилась по старым рельсам, покачиваясь. - Можно сказать, сбежал я оттуда. Тесно было, да. Душа томилась сталбыть. Дембельнулся когда, через города ехал. Видел, как живут. Там жизнь, да. И я в Покровке, воротясь, не задержался надолго. Собрался и уехал. Ох, и вляпался я сразу. Оно ж не дома! Добрался до Челябинска. Вот приехал я, а там у меня ни угла, ни работы, ни денег. Пожил на вокзале четыре дня. Два раза меня в милицию забирали. Тогда ещё милиция была. А я — что? Я — дембель. Отпускали сталбыть. И тут мне подфартило. Это я тада так думал. Женщина. Лет за тридцать. Разведёнка. Без детей. И у неё в Челябинске квартира. Давай, говорит, солдатик, со мной. Дело есть верное. Как сыр в масле будем кататься. Там рынок. Большой. Контейнеры стоят. Магазины вроде. Торговля! Народу! Куда там Москве! Деньжищи рекой текут. Только успевай черпать. Это она мне объясняла. Пойду, говорит, продавцом в контейнер. И, слышь ты, не за зарплату будем корячиться, а по-умному. Разузнаем, где товар, каким торгуем, можно взять недорого, и будем там покупать, а тут продавать. Хозяин как проверит? Он весь день сидеть не будет с нами. А как уйдёт, ты товар подвезёшь, вот деньги и наши. Я, грит, такое уже ворочала, со мной не пропадёшь. А ты машину себе купишь, солдатик. Машину хочешь? А чо, я хотел. Пётр Тимофеевич взял наугад свой чай и отхлебнул сразу полстакана. Было такое чувство, что он не с нами сейчас. - Не сразу нас взяли. Время такое было — работы нет. Одни безработные вокруг. И тут мы. А кому нужны? Никому. Несколько дней ходили по рынку. И вот набрели на мужика одного. Ни у кого работы нет, а у него есть. - Подфартило, - сказал я понимающе. - Подфартило, да, - кивнул мой собеседник и что-то я засомневался. - Сразу он нас не взял, понятное дело. Как бы примерялся к нам. Расспрашивал, кто такие и откуда, чем жили прежде. Полдня на нас убил. Потом лысину свою почухал и велел завтра приходить. Тогда, мол, и решится. Вроде как время взял на раздумье. Ну, нам-то деваться некуда. Пришли назавтра. Ладно, говорит, беру. С испытательным сроком. Месяц продержитесь — там видно будет. - За бесплатно взял работать? - догадался я. Он же должен был их как-то обмануть. Ну, взял, к примеру, с испытательным сроком. Месяц они у него батрачили, денег он им не платил. А через месяц выгнал. Не подошли, и все дела. Следующих взял за бесплатно. Выгодно ему. - Нет, плату нам назначил. Маленькую, это да. Но каждый день. День отработали — получили. А если месяц продержимся — это он нам так объявил — уже настоящая будет зарплата. Пожирнее, чем сперва. Пётр Тимофеевич отпил чаю с мрачным видом. - Торговал он сантехникой. Краны да унитазы, вобчем. Нам понравилось. Женщина эта мне сказала, что это не тряпками копеешными торговать. Там не заработаешь. А тут дорогой товар. Один унитаз продал, и если деньги не хозяину, а себе на карман — так уже вроде и не зря горбатились. Первые дни мы не шустрили пока. Присматривались сталбыть. Оно без опыта, конечно, тяжело, но торговля пошла поманеньку. Женщина эта прикинула, что к чему, и сказала, что дело выгодное вышло, повезло нам. Ну, назавтра после этих её слов нам и повезло по полной. Приходим утром к контейнеру, товарка моя замки отпирает, двери распахивает, их две там, и мы видим, что пусто, нету ничего. Ни унитазов, ни кранов. Всё вывезли. - Кто? - Сам думай. Вобчем, и хозяин тут как тут. Приехал как бы. И вроде он теперь нищий. Обокрали его сталбыть. Как взвыл он! Были бы волоса на голове — рвал бы их, так убивался. И всё ж подстроено как было. Мы тока открыли контейнер, а хозяин как из-под земли. Так-то мы бы дали дёру. А у него просчитано всё. Рядом где-то был. И сразу нас взял в оборот. Это вы, кричит. Ключи у вас тока. Тут же охрана рынка набежала. Он и на них кричит — прошляпили, бляха, как вывозили товар. Они мечутся, вопят — мы всё разыщем сталбыть. Из глотки вырвем. Шум такой, мы растерялись, это да. А нас в машину — и повезли. Привозят за город. Лесок такой. И никого. Из машины выкинули и побили маненько. Меня больше, конечно. Товарку мою так, подзатыльники ей тока. Кричат, где товар сталбыть. Уважаемого человека обокрали. И всё придётся возвернуть. А это и не мы. А они и не верят как бы. Снова меня били. Так били, что ежели был бы у меня товар — отдал бы. Но это же подстава. И тётка эта несогласная. Не брала я. Не брала, как пить дать. Она ж у меня на глазах была всё время. А они не верят вроде. И говорят женщине этой — либо товар возверни, либо квартиру у тебя отнимем. - А откуда они про квартиру знали? - не сразу сообразил я. - А сама она хозяину и сказала. Когда он беседу с нами имел. Он про многое любопытствовал. А где живёте, скока платите за угол. А у меня своя квартира, она ему говорит. Сама себе хозяйка. Погордилась сталбыть. Да-а-а. Ну, дурных таких, штоб квартиры раздавать, нету. Она и говорит им, што квартиру ейную не отдаст. Вот тогда и началось. Слушай сюда, они ей говорят. Щас мы дружку твому ногу сломаем. Не решишь с квартирой — вторую сломаем. Опять с квартирой не получится — тогда его живого в землю закопаем. Ну а потом тебя, ежли такая ты упёртая. Ногу мою на два брёвнышка положили, держат, а один, потяжелее кто сталбыть, мне на ногу и прыгнул. Такая боль была, что вырубился я сразу. Я непроизвольно скосил глаза на правую ногу своего собеседника. Вот он её и волочил, я ведь сразу заметил. — Када очухался я, гляжу — меня двое стерегут, а больше нет никого, и тётки этой нет. Увезли её. Потом те приезжают, без неё, мне говорят, что ежли я ещё раз на рынок сунусь, тада точно закопают. Меня сталбыть. Запрыгнули в свои машины и уехали. А я остался. Хотел идти, а — боль. Падаю. Полз. Больно, а ползу. Opy. Думаю, услышит кто. He-e-e. Так до дороги дополз. Лежал на обочине. Махал рукой, чтоб остановились. Машины мимо. Боялись. Ну, пьяный я, допустим. Иль подстава какая. Грузовик остановился. И так я в больницу попал. Дедок слушал молча и вид он имел безучастный. Не впервые, видно, слышал эту историю. А меня проняло. Как представишь, что мужик этот пережил в тот раз. Да какой мужик? Только из армии. Пацан. И тут такое. Пётр Тимофеевич будто мысли мои прочитал. - Это меня жизнь поучила, - сказал он без горечи, как о чём-то таком, о чём думалось не раз. - Тока от дома оторвался, а оно меня ткнуло носом в самое то. Жизнь, сталбыть, она такая, солдатик. Терпи вобчем. Я обратил внимание на то, какие тонкие руки у дедка. Ну, как спички. Такой же тощий после армии был, наверное, и его родственник, тогда ещё просто Петя. Такому ногу сломать ничего, наверное, не стоит. Хрясь — и готово. Я зажмурился даже. Неприятно. - А в Покровке сталбыть со мной такие страсти бы не приключились, - подвёл черту под той давней историей Пётр Тимофеевич. - У нас такое зверство и представить не моги. Святая щитай што земля. Не город. Посидели. Помолчали. Я видел, как бросают быстрые настороженные взгляды на рассказчика те две женщины, что сидели напротив, через проход. Слышали ведь всё. - А женщину ту Вы видели позже? - спросил я. - Нет. И не слышал ничего про ней. Помышляю, что отписала она квартиру энту. И бомжевала после. Замолчал, словно заново переживая давнюю историю. - Справная женщина была. Но ненадёжная. На следующей станции, названия которой я и не знал, мы простояли долго. Пропускали встречный грузовой. В убогом свете редких станционных фонарей я всё же разглядел, что везут лес. Четырёхосные платформы. С шестнадцатью стойками. Модель 13-198-01, если я правильно распознал. Состав был длинный. Будто бесконечный. Сколько же там платформ? Шестьдесят? Восемьдесят? Сто? Начнёшь считать, да и собьёшься. Вот же силища! Наконец, отправились. Я поднялся. - Курнуть? - понимающе сказал Пётр Тимофеевич. - Ага. Я на самом деле не курил. Просто хотел пройтись по составу. Первый же вагон, в который я прошёл, оказался ничем не лучше нашего. Сильный запах старья. Внутренняя обшивка кое-где поломана. В большом коридоре не все лампы исправны. И в следующем вагоне такая же картина. Мотаня доживала свой трудный век. Вот когда человек становится стар и немощен, за ним ещё есть уход, и лекарства ему дают в случае болезни, и врача вызовут, если что, но это всё уже по привычке. Просто так положено. А окружающие понимают, что бесполезно всё. Закон природы. Смерть близка и неизбежна. Её невозможно победить. Пассажиры в большинстве ещё не спали. Хотя за окнами и темно, но время не позднее. Зима. Кто-то разговаривал. Кто-то ужинал. Мамаша с двумя детьми играла в слова. Какая последняя буква в произнесённом слове — с той буквы должно начинаться и следующее слово. - Обрыв, - сказала девочка и взмахнула руками так, будто ухнула в этот самый обрыв. - Вагон, - с готовностью отозвался мальчик. - Ночь, - в свою очередь произнесла мать. - А на мягкий знак бывает слово, мам? - Нет. - Почему? - Ещё не придумали. Эта женщина могла всё объяснить. Даже в вагоне ночного поезда. В другом вагоне обутая в валенки бабушка с растерянным видом брела по коридору и беспрерывно звала: - Кс-кс-кс-кс-кс-кс … Кота везёт? Моя догадка подтвердилась сразу же. В одном из отделений обнаружился пушистый кот. Он не мог не слышать призывный «кс-кс-кс» своей хозяйки, но тут его кормили котлетой, и не в его силах было оторваться от угощения. Наверное, не хотел показаться невежливым. В переходах между вагонами воздух был такой выстуженный, что я заподозрил – температура уже опустилась ниже минус тридцати. Проводница при посадке говорила про минус двадцать пять. Так вот сейчас было явно холоднее. Войдя в один из последних вагонов, я вдруг услышал знакомый голос. У открытой двери служебного отделения стоял мужчина в старой-старой шубе и, кажется, женской. Этому мужчине голос из служебного отделения выговаривал: - Билет есть у Вас? Билета у Вас нет. И получаетесь Вы тогда у нас безбилетный пассажир. - Ну какой же я безбилетный! - неуверенно парировал мужичонка в дамской шубе. - А такой вот! Если откроете статью 82 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, так непременно прочитаете там, что физическое лицо, не предъявившее проездных документов, а именно билетов в поезде, является безбилетным. - И что ж теперь? - с вызовом произнёс безбилетник. Стоявшая рядом проводница смотрела на него с осуждением. - Теперь — безбилетное физическое лицо обязано приобрести проездной документ, а именно билет, а также оплатить оказание услуги по оформлению билета, - сообщил голос из служебного отделения. - Это всё та же 82 статья. - А денег нет! - бестрепетно сообщил пассажир. - То есть приобретать билет отказываетесь? - Ага, - необдуманно надерзил мужичок в шубе. - И на этот счёт в законе есть. Всё ту же 82 статью Устава открываем и читаем в ней – что? За отказ физического лица от приобретения билета и внесения платы за оказание услуги по его оформлению составляется акт и взыскивается штраф. Вы понимаете? Либо покупаете билет. Либо же и билет, и штраф. - А денег нет! - казалось, что мужик в шубе даже рад своему безденежью. - По суду заплатите, - спокойно сказал на это начальник поезда. - Предусмотрено. Давайте Ваш паспорт, я акт составлю. - И паспорта нет! - воскликнул мужичок торжествующе. Я обнаружил, что ему явно доставляет удовольствие возможность покуражиться. - Ну, это, конечно, меняет дело. Тогда по Мрже я вызываю наряд полиции. И это уже Вам дороже обойдётся. - Взятки штоль берут? - вызывающе произнёс мужичок. - Про это помышляете? - Взятки? В транспортной полиции? - с сомнением осведомился начальник поезда, и так он это произнёс, что иронии в его словах было не сыскать. - Не слышал такого никогда. Я ж не про деньги. А про то, что снимут Вас с поезда по Мрже, в отделении время проведёте, потом двое суток ждать, пока мы снова на Октябрьское пойдём. И в итоге ещё и за билет… Плюс штраф … На последних словах невидимого мне собеседника мужичок молча извлёк из-под бабьей своей шубы мятые замызганные сторублёвки и протянул их в служебное отделение. И я видел, как рука эти деньги приняла. Опешившая проводница только и вякнула запоздало: - Через порог-то не бери!!! Но было поздно. - Ты, Петровна, не колотись, - сказал начальник поезда. - Доедем, не переживай. Примета такая. Я знал. Железнодорожники вообще в приметы верят. Работа, видно, приучила. Вдруг и сам начальник поезда показался в дверном проёме. Хотел ещё что-то сказать своей коллеге, да увидел меня и будто поперхнулся. - Вы ко мне? - спросил он после некоторой паузы. - Нет. Прогуляться просто решил. - Да. На месте-то скучно ехать. Я протиснулся мимо мужика в шубе, мимо проводницы, и пошёл неспешно по коридору, спиной ощущая провожающий меня взгляд усатого. Прожигающий был взгляд. Вот прямо насквозь. Я перестал его чувствовать, только когда перешёл в следующий вагон. Поезд уже приближался к станции и сбавил ход, и до того неспешный. Вагон качнулся на стрелке и за окном тамбура уже угадывался свет станционных фонарей. Вошла в тамбур проводница. Взглянула на меня и ничего не сказала. - Куда это мы приехали? - спросил я у неё. - Мржа, - коротко ответила она. - Пять минут стоянка. Дверь она распахнула, только когда состав остановился. И тёплый до того тамбур в мгновение заполнила ледяная стужа. Воздух настолько был холодный, что обжигал при вдохе. Проводница спустилась на перрон. Снег под её ногами скрипел что твой крахмал в пакете. Мне отец рассказывал, как на съёмках фильмов при озвучивании скрип снега получается. Берут пакет или мешочек с крахмалом и тискают его, будто трут, перед микрофоном. Я пробовал. Очень похоже получается. Точь-в-точь как в кино. Я не удержался и тоже вышел из вагона. Выглянула из-за облаков круглая Луна. От неё исходило свечение, будто не начало декабря было, а наступала Рождественская ночь. Холод пронзил меня иголками и проделал это так быстро, что можно было усомниться в том, что на мне есть хоть какая-то одежда. По первому пути, воспользовавшись нашей остановкой, пошёл грузовой состав с лесом. Тяжело гружёный, он еле полз. Толстощёкий машинист выглядывал из проёма открытого бокового окна, разглядывая нашу несчастную мотаню с превосходством человека, который живёт настоящей жизнью, а не доживает её вот так некрасиво и неопрятно. - Воспаление лёгких будет у Вас, - сказала проводница. - Мороз уже за тридцать. А у меня зубы выбивали барабанную дробь. Чтобы окончательно не закоченеть, я побежал вдоль состава. Бежал так быстро, что нагнал локомотив грузового поезда. Толстощёкий машинист, завидев меня, дал короткий свисток. Подбодрил меня как бы. Перед входом в один из вагонов, мимо которого я пробегал, стоял начальник поезда и выговаривал парню, который на ногах держался еле-еле. Сильно нетрезвый был парень. До меня донеслись слова усатого: - Не имею права Вас сажать. Зато обязан сообщить в полицию на транспорте. Пункт 1 совместного приказа МВД и Минтранса Российской Федерации… Я не дослушал, потому что бежал быстро. Не посадит в поезд пацана. И я впервые задумался о том, что буквальное исполнение закона порой выглядит хотя и правильным … а всё же и неправильным. Так у нашего Башмыхина бывает. Примет решение — и как отрежет. Уже никогда потом не будет так, как прежде, ещё до того, как он сказал. И вроде по закону всё. Как полагается. А чувство у меня бывает порой … Ну, не знаю, как объяснить. Не то чтобы несправедливо Башмыхин поступает. Справедливо. По закону. Но хочется, чтобы почеловечнее было, что ли. Не наотмашь. Знакомая проводница в валенках стояла у моего вагона, пританцовывая. И всё так же её лицо было спрятано в платок, будто она его и не снимала. Я промчался мимо неё в вагон, и только захлопнув дверь тамбура, смог вдохнуть полной грудью. Здесь был жаркий воздух. Спасительно тёплый. И напрасно мне при посадке показалось, что этот воздух пахнет как-то не так. Он был полон ароматов жизни. Жизни, а не ледяной стужи за стенами вагона. И много бы отдал, я думаю, тот нетрезвый бедолага за то, чтобы оказаться в тёплой и по-своему уютной мотане. Я прошёл к своему месту и сразу же обнаружилось, отчего это воздух вагона мне показался вкусным. Пётр Тимофеевич за время моего отсутствия подготовил ужин. Настаивалась в пластиковых стаканах лапша быстрого приготовления, присыпанная специями. Лежала на пакете разломанная на несколько увесистых кусков копчёная курица, а подле неё — ярко-красные кружочки копчёной колбасы. Несколько сваренных вкрутую яиц уже были очищены от скорлупы. Солёные огурцы с налипшими на них частичками укропа и чеснока громоздились горкой. Ещё были несколько картофелин в мундирах и порубленная крупными дольками луковица. Чёрный хлеб с настоящим хлебным запахом. Так пахнет дома. - К столу прошу! - пригласил меня хозяин всего этого великолепия. Будто одного меня они со старичком и ждали. А дедуля, к слову, сидел неподвижно и смотрел завороженно на накрытый стол. У меня тоже было кое-что с собой. Сало. Копчёный сыр сулугуни. Несколько домашних котлет. Картофельное пюре. Я выложил всё на стол без утайки. - Да, посидим щас! - с чувством сказал наш сталбыть. И к женщинам этим, что сидели через проход, обернулся: - И вас прошу! Соседки наши ожидаемо отказались, поскольку, мол, только что из дома, и на ночь они вовсе не едят, и вообще у них диета. Но Петра Тимофеевича этим было не пронять. - Очень вас прошу, землячки, - произнёс он степенно и внушительно. - Домой я еду. И тута для меня все родичи. Все свои. Для него, кажется, было важно то, что они ему землячки. На одной земле выросли. И отказ был бы для него болезненным. Вроде как провинился когда-то, и с тех пор нет ему веры. Я заподозрил, что так можно вечер и испортить. В один момент. Я взял две пластиковые тарелки из стопки на столе, положил в каждую по картофелине, по яйцу, по огурцу, по котлете, ну и курочки по кусочку, хлеб. Поставил эти тарелки на вздыбившийся меж женщинами столик, произнёс едва слышно, склоняясь над ними: - Нормально доедем. Не обижайте его. Мотаня наша уже катилась по рельсам. Луна спряталась. За окном ночь стала непроглядной. Пётр Тимофеевич извлёк из сумки бутылку водки и поставил её на стол. Посмотрел на меня призывно-вопросительно. Но я даже не успел ответить на его безмолвный вопрос. Мимо нас по коридору прошёл начальник поезда. Однако до служебного отделения он не дошёл. Внезапно встал как вкопанный и попятился, чтобы лучше всех нас видеть. - Приятного, конечно, аппетита вам, - произнёс он голосом, в котором угадывалась строгость. - Но вот этого не надобно, конечно. Это он про водку. Я понял. И все поняли. - Так мы ж в дорогу сталбыть. Для встречи с родимым домом. - Пожалуйста. Уберите. Начальник поезда именно так и произнёс. С точкой посередине. С паузой. У него внушительно очень получалось. Умел свою мысль донести. Я снова вспомнил Башмыхина. И сказал своему попутчику примирительно: - Да уберите Вы её. Нельзя — так нельзя. Пётр Тимофеевич подчинился, но осерчал он, это было видно. Не считал, наверное, что ему имеют право указывать. Только тогда начальник поезда прошёл дальше и они с проводницей о чём-то разговаривали вполголоса. Это продолжалось долго. Сталбыть устал ждать, пока усатый уйдёт. Выставил на стол два прозрачных пластиковых стакана, налил в них водки, один стакан придвинул мне. Старику не налил почему-то. - Я не поддержу Вас, — сказал я. - Извините. Только недавно из больницы. Я соврал с лёгким сердцем. Это чтобы не обидеть попутчика. Святое дело. А так вообще я в дороге не пью. С чужими людьми — тем более. Пётр Тимофеевич и не заподозрил в моих словах лукавства, кажется. - Ну, за хорошую дорогу, - сказал он. Махом выпил водку и закусил солёным огурцом. И тут же мой стакан взял тоже, выпил. Между первой и второй ... Но тут уж перерывчика и вовсе не было. - Вы ешьте, - произнёс он участливо. - Ехать ещё ого-го сколь. Он разговаривал со мной, а сам мыслями был очень далеко. Я заметил. Только сегодня он узнал, что там, куда он держит путь, нет ничего. И он ехал в никуда. Ни одной родной души там нет. Жилья нет. И даже остановки нет, вот ведь какие дела. Он много лет думал про эту свою Покровку. Мечтал вернуться. Но всё что-то мешало. То это, то другое. А душа болела. И, наконец, дозрел. Всё бросил. Дедка этого вот взял. Поедем, мол, в Покровку. Пройдёмся по улице меж домов. Пускай посмотрят на Петра Тимофеича. Так мне это всё виделось. И вот сейчас сталбыть ещё держал путь на Покровку, как где-то там в городе замыслил. Но это было движение по инерции. Набрал он ход, а остановиться сразу не может. Несёт его туда, где нет ничего. И цели, получается, нет. Смысла нет. Незачем ехать. Во как. - Родители-то Ваши живы? - внезапно поинтересовался Пётр Тимофеевич. - А как же! Живы. - Ну, да, возраст Ваш сталбыть. Ещё такой, что и родители в силе. А мои вот померли, - вздохнул он. - Такие дела. Не давала ему покоя та история. Чувствовал вину. И потому, возможно, рвался в эту свою Покровку. Прощения заслужить. Хотя бы перед самим собой. - Родственники умершие какие есть? - спросил мой собеседник. - Это да. Есть те, кого мы схоронили. - Я третью всегда пью за тех, кого уж нет. Помянете своих? - Нельзя мне. Я же говорил. - Говорил, да. Пётр Тимофеевич налил почти полный стакан. Женщины-соседки поглядывали на него с настороженностью. Ожидали, что такими темпами сталбыть быстро наберётся и тогда начнутся приключения. Мой попутчик замер, глаза прикрыл, будто что-то вспоминая, да и выпил водку одним глотком. После хрустел огурцом, расправлялся с курицей, долго молчал, хмурился. - Вы из больницы, да, - вспомнил он, наконец, обо мне. - Не позавидуешь. Сам лежал сталбыть. На стройке работал, меня завалило. - Земляные работы? - уточнил я, только чтобы поддержать разговор. - Зачем же земляные? - А завалило Вас чем? Землёй? - Не-е. Кирпичом. Мы в котловане были, это да. Но не рыли ничего. Тока опалубку налаживали. Фундамент собирались лить. А рядом с котлованом был кирпичный корпус. Завод. Ещё до войны построили сталбыть. И, видать, котлован больно близко вырыли. Грунт подался, и стена эта кирпичная прям на нас ухнула. Троих наших всмятку. Расплющило. - Потом их в закрытых гробах хоронили. А мне тока ногу отдавило. Подфартило вобчем. Что-то зацепило меня в его рассказе. Но я пока не отдавал себе отчёт, в чём дело. - И вот в больнице я. Лежу. А ску-у-ука! К другим люди хоть идут. А я лежу в единственном числе. - А семья? - спросил я. - А семьи не было. Ну, как … Была женщина у меня. Куда же без неё. А как со мной это приключилось, даже ни разу не пришла сталбыть. Кому я нужен без ноги? Да, про ногу. Вот что меня зацепило. Он уже рассказывал сегодня. Как на рынке торговал. Как ему бандюки ногу поломали. А теперь он всё по-другому повернул. На стройке вроде приключилось. Забыл про то, что уже рассказывал? После трёх стаканов очень даже может быть. И едва я об этом подумал, сталбыть себя выдал с головой. Глядя за окно, он произнёс протяжно-задумчиво: - Справная женщина была. Но ненадёжная. Теми же самыми словами. Как час назад. Но то про другую, вроде, женщину. Это у него такой эстрадный номер был. Чёрный юмор. Артист, одно слово. Я скосил глаза на женщин, соседок наших. Они, сблизив головы, перешёптывались о чём-то. Видно, тоже догадались, что дело тут нечисто. А Петру Тимофеевичу хоть бы что. Погрустил недолго напоказ и снова водки налил. Взял стакан в руку. Сказал: - Ну, здоровья всем сталбыть! И на этих его словах в коридор вошёл начальник поезда. Остановился напротив нас. Смотрел строго. Под этим взглядом Пётр Тимофеевич замер на мгновение. Я ждал, что будет. И тут Пётр Тимофеевич сказал неспешно, ни к кому конкретно не обращаясь: - Тост был. Ставить взад нельзя. И с полным осознанием собственной правоты одним махом выпил водку. Начальник поезда тяжело опустился на полку рядом с Петром Тимофеевичем. А только там свободное место и было. Начальник внимательно всмотрелся в моё лицо, затем так же тщательно изучил лицо безмолвного дедка, после чего произнёс, уже ни на кого не глядя: - Пункт 1 статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации говорит нам о том, что распитие алкогольной продукции в местах, запрещённых федеральным законом, влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. - Я заплачу, - тут же отозвался сталбыть. - Виноват — отвечу. - Так это ещё не всё, - сказал усатый, по-прежнему ни на кого не глядя. - Есть приказ Минтранса России от 12.2013 года № 473, который называется «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». И пункт 70 этого приказа говорит о том, что пассажир может быть удалён из поезда работниками органов внутренних дел, если пассажир в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. У этого усатого мышь не проскочит. На всё у него статья нужная найдётся. Тут Петра Тимофеевича проняло. Это плохо, если откупиться нельзя и из поезда высадят. Дело даже не в том, что за окном уже ночь и мороз за тридцать. А вот выйдет на ближайшей станции сталбыть с дедушкой этим, и их марш-бросок в направлении вожделенной Покровки прервётся. Мне показалось, что дело было как раз в этом. Рвался в свою Покровку Пётр Тимофеевич. Он подумал, подумал, да и убрал бутылку под стол. И перевёл разговор на другое. - Так нету в Покровке остановки сталбыть. - Нет, - подтвердил начальник поезда. - А к Покровке ближайшая станция какая? Ну, которая перед ней — где поезд останавливается. - Вощихино. - Ой! - недоверчиво глянул сталбыть. - А Григоровка? А эта … Как её … Мурашево! Всегда там останавливались! - Так то когда было? Давно там остановок нет. - Неужто повымерли? - помрачнел Пётр Тимофеевич. - Григоровка стоит пустая. Там никого. А в Мурашево есть несколько стариков. - Ну?! - вопросительно изогнул бровь дугой сталбыть. - Хотя платформа и называется Мурашево, от неё до самого Мурашево, до жилья там километр, не меньше. Зимой дороги нет. Всё заметает. Старикам не дойти. Вот и нет остановки. Но это если зимнее расписание. А как летнее — останавливаемся, а как же. Продукты доставляем. Лекарства опять же. И сами старики едут. И в собес, и в больницу. - А раньше ж было — из Октябрьского шоссейная дорога до Шелемахи. И там ответвлялось и в Покровку к нам, и в Григоровку, и в то же Мурашево. На мотоцикле я гонял. Я помню. - Шоссе есть. И зимой там ездят. Но до деревень этих не чистят дороги. И заезда туда зимой нет. Ни в Григоровку, ни в Мурашево, ни в Мржу. Вот мы сейчас проезжали Мржу. Пять минут стоянка. Железная дорога работает, пассажиров доставляет, грузы. А по шоссе туда зимой не доедешь. Ну, если снега не было давно, так расчистят, конечно. А как навалит, могут и две недели просидеть там взаперти. Только мы и выручаем. - Так без железной дороги вашей был бы вовсе каюк сталбыть? - Железная дорога работает всегда. Где она есть — там жизнь. Вот Октябрьское, куда едем. Дорогу туда проложили после войны уже. Гарнизон там был. Военные стояли. - Да, помню. Ракетчики. - Вот-вот. Грузы туда шли. Потому что оборона. А в девяностые годы военных вывели оттуда. И всё равно Октябрьское не пропало. Леса там много. Валят и вывозят. Дорога есть! Чего же не везти? Сейчас там строят новый цех. Лесопилка будет. Уже не кругляк повезут, а пиломатериалы. Людям — работа, стране — доход. А не будь дороги нашей — не было бы ничего. Гнил бы лес без пользы. Вот куда Петру Тимофеевичу надо бы. Не в Покровку, а в Октябрьское. Там не пропадёшь. - А чего же не ложитесь? - поинтересовался начальник поезда. Не то чтобы он удивлялся этому, а намекал, что пора бы и спать. И нам отдых, и ему спокойнее. - Как раз мы собирались, - сказал я. - Бельё сейчас возьмём. - А вот это не волнуйтесь, - поднялся начальник. - Доставим сейчас же. Он ушёл в служебное отделение и вскоре вернулся, держа в руках увесистую стопку постельного белья. - Прошу! - сказал торжественно. - Сервис тут на высоте, - признал я, чтобы сделать этому человеку приятное. - В пути следования пассажирского поезда в вагонах со спальными местами проводник обязан обеспечивать пассажиров комплектами постельных принадлежностей. Пункт 3.1 Инструкции МПС № ЦЛ-614 Проводнику пассажирского вагона, - отчеканил начальник поезда. Просто работа наша, мол. Так положено. Не придавайте значения. - Приятно всё же, когда люди выполняют свои служебные обязанности так … Будто не для других, а для себя, - витиевато сформулировал я. - А как же! - с неожиданным для меня жаром воскликнул начальник поезда. - Не должно быть недовольных! Это РЖД! Знаете, как расшифровывается? - Российские железные дороги. - Это да, это правильно. Но это официально. А ещё по-другому можно. РЖД - это Россиянам Желаем Добра! Во как! Спокойной ночи! Он победно взметнул руку к своей шапке, отдавая честь, и поспешно удалился, поскольку поезд наш уже останавливался у маленького, в три окна, здания станции. - Какой служивый! - оценил я. - Сердечный человек! Пётр Тимофеевич кивнул согласно. - Вот люблю я ездить в поездах, - сказал он. - Живёшь где-то. Вроде там дом. Сел в поезд. Уехал. Новый город, ага. Видишь что-то другое. Пожил там. Даже поработал, к примеру. А в дом всё одно хочется. Снова в поезд садишься. Едешь. И ещё не приехал, ещё в вагоне — а уже знаешь, что возвращаешься. - Уезжать и возвращаться! - подтвердил я. - Вот формула железной дороги. Её главный закон. Рельсы, мосты, семафоры … Я даже хотел когда-то в детстве стать машинистом тепловоза. Это после того, как я книжку прочитал. Старая такая. Ещё отец мой её читал. Название помню до сих пор. «За правым крылом». Про железную дорогу и про машинистов. И эта книжка меня перевернула. Я ни о чём другом даже думать не хотел. Мечтал. К железной дороге бегал, смотрел на поезда. Сталбыть ждал продолжения. А я молчал. - Не сложилось, - понимающе сказал он. - Бывает, да. Не всё в жизни гладко катит. Случаются и кочки. Пётр Тимофеевич извлёк из-под стола недопитую бутылку. Посмотрел на меня. - За то, что хотя иногда и уезжаем, а возвращаемся всегда, - предложил он тост. - За железную дорогу сталбыть. Я дрогнул, но удержался. Развёл руками — я же, мол, предупреждал. А Пётр Тимофеевич выпил. Вот сейчас я нисколько не видел в нём выпивоху, не способного остановиться. Он возвращался домой. И очень волновался, как я догадывался, только он вида не показывал. - Новый цех в Октябрьском строят, - сказал я. - Вам бы туда. И работа, и зарплата, и цивилизация. Сталбыть промолчал. И помрачнел. Угадал я его неспокойствие душевное. - А в Покровку можно наезжать, - продолжал я. - Лето вот наступит … Ну, да, мотаня там не останавливается. И зимой обычной нет дороги, всё под снегом. Зато летом — красота. Конечно, та дорога от шоссе, что помнится Петру Тимофеевичу, уже давным- давно заросла травой. Но всё равно можно добраться, наверное. Сговориться с кем-то, у кого есть уазик. Отвезёт, не откажет. Вот и доедут. Здравствуй, Родина. Вот изба родителей. Вот могилки их. Отведёт мужик душу, раз уж так томится. - В Покровку поеду! - твёрдо сказал Пётр Тимофеевич. - Там буду жить! - Там нет ничего! - я едва руками не всплеснул. - Развалилось всё наверняка! Вы из дома уходили, где люди жили. Таким дом и запомнили. А его — того, прежнего — нет. Крыша провалилась … - Крышу подлатаю! - быстро произнёс мой собеседник, и было понятно, что уже думал он про это. - Дома у нас крепкие ставили. Люди в лесе знали толк сталбыть. Стены есть. Печь тоже есть. А чего ей сделается, каменной-то? Да, думал он про это прежде. Обмозговал и имел какой-то план. - Продукты опять же, - напомнил я. - А чо? Везём с собой. Сподобимся как-то. А весна придёт — посадим, што смогём. И картошку, и свёклу, и капусту. Корову заведём. У нас трава какая! Коровы молоко такое давали, што сметану с того молока можно было ножом резать. Во как! Вы в городе такую видели сметану? То-то! Хорошо ещё, что по Покровке отменили остановку. Доедет этот сталбыть до Октябрьского как миленький. Потыкается туда-сюда. Да и успокоится до лета. А так бы и пропали там они со стариком. - Жить надо там, где народился, - вдруг сказал Пётр Тимофеевич. - А не рваться куда-то далеко. И я уехал. Тоже дураком был. Как все. В город! К хорошей жизни! А то тесно дома! А что видел в энтих городах? Горюшко одно! Нипочто не нравится нам там, где мы живём. Где-то далеко получше сталбыть. Туда и прёмся. И я так помышляю, что никак мы свою жисть не наладим и живём опять же трудно, потому что норовим прилететь на готовое, как птички, а не там лучшить жисть, где народились. Покровка наша — какая деревня была! И получается, что всю ту красоту наши отцы и деды сработали, а мы оттуда дали дёру. Предатели сталбыть. Всё развалили. Это мы развалили! - постучал себя кулаком в грудь. - Я вот постарался, Ванёк Чубатый, мы вместе с ним учились … Да, а школа же у нас была! - вспомнилось ему. - Лидия Ивановна! И русский нам рассказывала, и математику … И где всё это, а? Пётр Тимофеевич смотрел на меня и явно меня не видел. Он сейчас был потрясён и растерян. И ещё очень одинок. Я только теперь это понял. Один как перст на всём на белом свете. Хоть караул кричи. И тут мне такая строчка вспомнилась: «Господи, поверь в нас: мы одиноки». Это же крик одинокой души. Это про Петра Тимофеевича прямо. Мне в память врезались эти слова, когда я рассказ читал. Распутин автор. Мне тогда фамилия запомнилась легко. Так вот. У нас на работе у старика Кузовлёва в шкафу целая прорва старых журналов и книг. И не возбраняется их брать. Вот я взял тогда журнал. Потому что он за 1982 год. А я в тот год родился. Такая только и была причина. И рассказ этот, да. И там слова эти. Я тот рассказ читал, и мне поначалу было не совсем понятно. Вот писатель этот съездил в город, где его дочка и жена жили, но ему надо срочно обратно возвращаться. А сам он жил не дома, а на озере Байкал. Ну, нарочно так придумал, чтобы от дома подальше и никто не мешал ему книжку писать. Маленькая дочка просила остаться, а он уехал. И плохо ему потом, и мечется, места себе не находит. И, когда я читал, как-то было и тревожно мне, и непонятно, я же говорю. А вот как до этого дошёл — «Господи, поверь в нас: мы одиноки» — я всё понял. Ты можешь не в глухом лесу быть, а среди людей, и всё равно ты будешь одинок. И это страшно. Дедуля тем временем доел свою лапшу. Даже вымокал остающуюся влагу хлебом. Он вообще ел аккуратно. Ни крошки я не увидел на столе. - Скоро спать. В туалет пойдёшь? - спросил у него Пётр Тимофеевич. Дедок молча кивнул. - Провожу, - сказал сталбыть. Он пошёл по коридору, подволакивая ногу. Старичок плёлся за ним — худющий, как тростинка. И низенький какой-то. Точно, болеет. Было слышно, как захлопнулась дверь туалета. Потом сталбыть вернулся. Сел напротив. - Пойду наверх, - сказал я. - Ночь уже. Я намёки понимаю. Засобирались мои попутчики спать — мешать не надо. Я — наверх. А они тут пусть постели застилают. Но неловко было как-то. Я видел, как сталбыть волочит ногу. Инвалид. - Могу помочь, - предложил я. - Матрас сейчас вниз спущу и постелю тут Вашему дедушке. Пётр Тимофеевич посмотрел на меня. Его взгляд был тяжёл, как бетонная плита. Я даже подумал, что чем-то его смертельно обидел. - Ну, вот старичку этому, который с Вами едет, - пробормотал я. Растерялся я под этим страшным взглядом, если честно. - Не старичок он, - сказал Пётр Тимофеевич и слова он ронял тоже тяжеленные, как та плита. - Это мне сын. Семнадцать годов ему. Я смотрел на него во все глаза. Не знал, что и подумать. Перевёл взгляд на женщин. И они смотрели на моего собеседника недоверчиво-растерянно. - Болезнь ево такая, - продолжил Пётр Тимофеевич. - Маленький пока, а глядится как старик. Редкая очень болезнь. Может, он один такой на всю Расею. Может, исчо кто есть. Про то не знаю. Зовётся это прогерия. Дитё стареет быстро, помирает рано, и помочь никак нельзя. Лекарства нету против этово. - Это врачи так говорят? - спросил я. Не слышал никогда про такое лихо. - Врачи, да. С них спрос какой? Природа так скомандовала. Она сильнее. От рака тоже нет спасения. Вот и тут помочь никак нельзя. Теперь я верил каждому его слову. Не так давно он показался мне человеком несерьёзным. Не то сейчас. Такое горе не сыграешь. Никакой он не артист. - Везу его домой. На Родину к себе сталбыть. - А врачи? Больница? Нет же там ничего! - я никак не мог поверить в подобное неразумие моего собеседника. - А что ж врачи? Говорю — нет спасения. Врачи сказали, что помрёт он скоро. Семнадцать годов, восемнадцать, девятнадцать — и всё, нету человека. Помрёт от старости как бы. Как старик. Организм отказывает. Ну, как мотор в машине. Ежели старый движок и посыпался он — всё, уже не починишь. Только разница в том сталбыть, что старик пожил. А этот и не жил ещё. Такая вот беда. Он в Покровку вёз сына умирать. Только я об этом подумал, как Пётр Тимофеевич мысль мою и подтвердил. - Помирать человеку надобно на своей земле, а не где-то там, - сказал он, ни на кого не глядя. - Потому как это человек, а не пёс шелудивый. Будем жить там. Всё своё, что от рожденья дадено. На природе поживёт. Посмотрит, где ево папаня бегал, када ему стока же было годов. А в городе том что? Чужие люди. На него глядят, злыми словами обсуждают. А он разве виноват, что с ним такое приключилось? Беда такая, а жалости к ему и нету. Он помолчал, невидяще глядя сквозь меня. - А мать-то есть у него? - тихо спросила одна из женщин. - Как не быть? Без матери никакое дитё не родится. Была мать, а как же. Родила – и жили как положено. Нормальный навроде родился. А с трёх годов как будто началась болезнь. Не рос. Кожа стала сохнуть и то-о-онкая такая сделалась! Мы по врачам. А толку нет. Сказали, что вылечить нельзя. Так и будет мучиться. И тада она сбежала. - Мать?! - Ага. Ево мне оставила, а сама ушла. Ну а я куда ево? Живая же душа. И сын опять же. Ну кто-то ж должен рядом быть, когда беда. - Да как она могла так! - в сердцах сказала женщина. Но, против моих ожиданий, Пётр Тимофеевич жаловаться на судьбу-злодейку не стал. Только и сказал вначале уже нам знакомое: - Справная женщина была. Но ненадёжная. Помолчал, потом произнёс спокойным, без надрыва, голосом: - Но она-то что? Моя вина. Из-за меня такое злополучие. Судьба меня наказывала. За то, что жил неправильно сталбыть. Набедокурил ежели — терпи потом. И вторая наша соседка тут вдруг сказала: - А чего же Вам так с женщинами не везло? С сочувствием вроде как произнесла. - Так сложилось сталбыть. И тоже помышляю я, что наказание. Я из армии када возвернулся, меня ждала одна. Там, в Покровке. Я Пётр Тимофеевич. А она Ольга Тимофеевна. Вишь как сложилось. У обоих отцы Тимофеями звались. Любовь с ней у нас была. Мне в армию писала письма. Ну, вобчем, к свадьбе дело шло. А я из армии приехал и меня тянет из Покровки — куда там! Вот аж болею! Пропадаю! И сорвался в город. Получалось, про жисть свою я как бы думал, а про Ольгу свою — не то. Ну, мечталось, поработаю я в городе, к себе выпишу её, и заживём. А куда там! Закружило, задубасило меня, тока успевай уворачиваться сталбыть. И день за днём — по другим рельсам моё всё покатилось. То одно, то совсем другое. И не сложилось. Жисть — она заманивает, кружит, путает. И ежли кто сплоховал, своё щасте просмотрел — тому бывают испытания … Пётр Тимофеевич не договорил, потому что со стороны туалета послышался какой-то шум. Вроде как удары, а потом сразу вой. Ужасный вой, аж мурашки по коже. Сталбыть первым вскочил, но его нога подвела, неловко как-то он её поставил и замешкался. И я вперёд него успел. Выбежал в коридор, да проводница меня опередила. Она уже была у двери туалета и с такой силой ударила по ней, что воющего болезного этого парня, похожего на старика, той дверью к окну отшвырнуло. И сразу прекратился вой. Хромоногий Пётр Тимофеевич нас с проводницей в сторону сдвинул одним махом, просто нас убрал, и к сыну кинулся. - Ну, што ты, а? Про што ты испугался? Сын ему не отвечал и только слёзы катились по его лицу. Точно, испугался. Отец прижал его к себе крепко-крепко. Но бережно, словно боялся ему кости хрупкие сломать. - Дверь у нас тут, - пробормотала проводница. - Застревает. Ну да, мотаня. Ничего не сказав, Пётр Тимофеевич увлёк сына за собой. Я спустил вниз с верхней полки два матраса и, невзирая на протесты своего попутчика, обе постели застелил. Но на столе ещё оставалась еда. И надо было это всё убрать. Я обвёл рукою стол, обернулся к Петру Тимофеевичу, а он вдруг выставил бутылку с недопитой водкой. Сказал тихо: - Я сердешно Вас прошу, Александр Александрович, со мною выпить. Завтра другая жисть пойдёт, завтра мы приедем. А сегодня можно сталбыть. Меня это его «Александр Александрович» по сердцу резануло. Вот будто меня на чём- то неприглядном поймали. И зачем соврал ему, когда он именем-отчеством моим интересовался? Мальчишество какое-то. Пётр Тимофеевич воспользовался моей заминкой и остатки водки в два стакана разлил. - Ну, давайте! - сказал он после некоторого раздумья. Вроде, и не сказал он тост. А всё-таки сказал. Я его понял. Догадался про всё, чего он выразить словами не смог. Мы выпили. Посидели пять минут. Да спать пора было ложиться. Женщины, соседки наши, уже легли. Я ушёл в туалет, потом вышел в тамбур. Там было холодно. Но я постоял у двери, дыханием выплавляя в заледеневшем окне маленький кружок. И всё равно в тот кружок ничего не было видно. Чернота. Я вернулся в вагон. И Пётр Тимофеевич, и сын его уже спали. На полу под столом лежала нога в ботинке. То есть ботинок был, из ботинка торчал штырь такой, вроде трубы, а сверху на трубу была нахлобучена ваза или ёмкость такая, и я не сразу даже сообразил, что это протез. Я на эту штуку смотрел и поверить глазам не мог. Потом взгляд перевёл на спящего Петра Тимофеевича. Тот был укрыт одеялом. И так это одеяло лежало, что легко угадывалось — ноги-то у него и нет. Вот отчего он ногу подволакивал. Потому что никакая это не нога. Я опустился на полку к семнадцатилетнему старичку и смотрел, не мигая, на тот протез проклятый. У меня в голове не укладывалось. Проводница шла по своим делам каким-то. Тоже увидела протез и остановилась даже. Я смотрел на протез и проводница смотрела. И тихо так было. Все спали уже. Вдруг всхлип. Я посмотрел на проводницу. Она плакала. И ничего с собой поделать не могла. И тогда я догадался, что она всё слышала, о чём сталбыть рассказывал. Про мальчика, чью скорую смерть никто не может отменить. Про его мать, от сына своего сбежавшую. Про жизнь самого Петра Тимофеевича, какую никто из нас не хотел бы прожить. И тётка эта плакала по- бабьи горько, жалея отца с сыном за их неудавшиеся жизни. Так и ушла она — в слезах. Я заснул быстро, потому что устал в тот день. И ночь пролетела для меня, как одно мгновение. Проснулся я от какого-то звука. Вскинулся и увидел, что Пётр Тимофеевич не спит. И уже одет. Даже снова стоит вроде как на двух ногах. За окном едва светало. Он увидел, что я проснулся, и прошептал едва слышно: - Вощихино скоро. Какое такое Вощихино? Я не сообразил спросонья. А мотаня замедляла ход. Пётр Тимофеевич надел куртку с капюшоном и превратился в такого огромного и неповоротливого, что ему вроде как тесно тут с нами стало. Он ушёл. Сын его спал. Мы стояли минут десять, никак не меньше. В вагоне было тихо. Только зашли женщина с мальчиком, но и они прошли по коридору почти бесшумно. От их выстуженных на морозе одежд на меня дохнуло холодом. Наконец, и Пётр Тимофеевич вернулся. Он был взором строг. Мотаня дёрнулась и поползла по рельсам. Я со своей полки спустился вниз. - Не схотел машинист остановиться на Покровке. Не положено сталбыть. Уж как я уговаривал ево. Ни в какую! Накажут, говорит. Весь рейс ево записывается и видно там, ежли встанет в неположенном месте. И всё, не пощадят потом. Только теперь я вспомнил, что Вощихино — это последняя остановка перед Покровкой. А в Покровке остановки не бывает. Пётр Тимофеевич ходил к машинисту, хотел договориться, чтобы их с сыном на Покровке высадили. А не сложилось. Сын Петра Тимофеевича проснулся. Резко сел на полке. Смотрел за окно. Он сейчас был похож на птицу. Со своим-то острым носом. За окном стоял стеной лес. Птице бы туда. А не улетишь. Стекло. Это как в клетке. - Через час Покровка, - сказал ему отец. - Давай позавтракаем. Они доели остатки вчерашнего нашего роскошного дорожного застолья. И меня Пётр Тимофеевич пригласил к столу. Через час в Покровке будем. Через три часа — Октябрьское. Пётр Тимофеевич смотрел за окно задумчиво. Мотаня неспешно ползла через лес. Тут была настоящая чаща. Ни малейших следов присутствия человека. Пётр Тимофеевич смотрел на эту картину как завороженный. Даже забыл про завтрак. Потом очнулся будто, обнаружил моё присутствие, вдруг склонился над столом и прошептал так тихо, что только одному мне и было слышно: - Мы на Покровке выйдем, Александр Александрович, - и снова меня это моё лживое «Александр Александрович» резануло. - Не положено сталбыть, мне машинист сказал. Но ежли надобность такая, ежли невтерпёж, то дёрни ты стоп-кран, это он мне говорит. А я перед Покровкой сбавлю ход, еле-еле буду тянуть, это штоб пассажиры с полок не посунулись. Не покалечился штоб кто. И там мы встанем. Вещи свои выкинешь в снег из тамбура, и сам следом. Тока не говори никому, мол, а не то накажут. Сердешный человек случился. Мне до сих пор не верилось, что они с сыном сойдут по Покровке. Мне это представлялось настоящим самоубийством. Даже промелькнула мысль, а не пойти ли мне к начальнику поезда и не предупредить ли его об этом сговоре. Но что-то меня останавливало. Уж не моё ли враньё про Александра Александровича? Позавтракав, отец и сын оделись и пребывали в полной готовности. Ехали молча. Уже в вагоне началось движение, люди просыпались, где-то близко звучал малоразличимый разговор, и только у нас было тихо до поры. Как вдруг Пётр Тимофеевич сказал задумчиво: - Родители тут мои схоронены. Не смог приехать сталбыть. В колонии сидел. Статья 144. Это исчо по тому кодексу, по старому. Кража в крупном размере. На складе работал сторожем. Только там и взяли. С такой ногой куда пойдёшь? А тута ко мне по-человечески. Подфартило вобчем. Ага. Ну, и как всегда. Кому мимо, а мне в рыло. Вскрылось хищение. Воровал завскладом. Все знали. А у ево отец был непростой человек. Знамо дело, вступился за сыночка. И тот получился ни при чём. Но кто-то должен сесть. Я случился крайний. Сел. А родители мои в два года померли один за другим с тоски. Мне показалось, что мотаня замедляет ход. И Пётр Тимофеевич насторожился. Да, похоже было, что мы подъезжали. Пётр Тимофеевич поднялся. Протянул ладонь свою немаленькую. - Ну, прощевайте, Александр Александрович ... - Да не Александр Александрович я! - вырвалось у меня. - Толик моё имя! - А батюшку Вашего как звать? - спросил Пётр Тимофеевич, нисколько, кажется, не удивившись. Он вообще, похоже, разучился удивляться хоть чему-нибудь. Жизнь принимал такой, какая она есть. - Дмитриевич я. - Прощевайте, Анатолий Дмитриевич. С этими словами он шагнул к служебному отделению и в малом коридоре сорвал стоп- кран. Зашипело там, мотаня заскрежетала, споткнулась будто, да и остановилась. — Это што-о-о-о?! - запоздало всполошилась проводница. Пётр Тимофеевич на неё и внимания не обратил. Ворвался в наше отделение, выдохнул: - Ну, погнали! Ждать нас не будут! Сумок с ними было две. Огромные, как прицеп автомобиля. Пётр Тимофеевич только одну схватил, поволок её по коридору. А мальчишка этот старичок вторую даже и не поднял бы. Никаких сомнений. Я приподнял тяжеленную сумку. Но не донёс бы. Поволок так, как попутчик мой нечаянный это делал. В тамбуре стояла проводница. Кричала: — Куда?! Нету тута остановки!!! Нельзя! !! Но красный флажок наружу выставила. У нас это называется «выбросила красный». Сигнал машинисту. Запрещено отправление. Пётр Тимофеевич был уже внизу со своей сумкой. Снег глубокий. Чуть ли не до пояса. - Постор-р-ронись! - рявкнул я. Проводница отпрянула. Вякнула и мне: — Куда?! Я бросил сумку вниз. Она зарылась в снег. — Спасибочки! - крикнул снизу Пётр Тимофеевич. — И сына мне отдайте! А тот уже пробирался промеж нас. К отцу. Единственная его защита в этой жизни. Он прыгнул в снег. Отец его хотел принять в полёте, а получилось так, что будто бы обнял. Проводница подняла, наконец, откидную площадку, сбежала по ступеням вниз. Пётр Тимофеевич уже брёл по снегу, взгромоздив сумку на спину. Сын пробирался вслед за ним, барахтаясь воробушком в снегу. Росточку-то был малюсенького. - Куда?! - орала проводница вслед. - Нету тут никого!!! Ни людей нету, ни жилья!!! Пропадёте без следа!!! Пётр Тимофеевич сумку оставил поодаль, возвратился за второй, которая лежала у вагона. Проводница онемела на время. А мужчина сумку подхватил и снова пошёл прочь от мотани. Туда, где его сынишка дожидался. Я не выдержал и тоже спустился по ступеням. Тут не было платформы. Я в снегу утонул. Наша проводница всё так же держала красный флажок. И все проводники выбросили красный, дублируя сигнал. Смотрели с напряжением и даже вроде бы с испугом. Не понимали, что происходит. Настоящее ЧП. От места остановки поднимался белоснежный склон, совершенно безлесный. И Пётр Тимофеевич с сыном держал курс куда-то туда, на самую вершину, на которую, казалось, нахлобучили низкое тёмное зимнее небо, предвестник скорого обильного снегопада. Первые крупные хлопья снега уже срывались. - Ну как же это, а?! - сказала проводница тем двоим вослед. Обернулась ко мне, будто ожидая услышать ответ хотя бы от меня, и я увидел, что она плачет. Орать орала, но жалела их, как я подумал. Эти двое медленно удалялись от нас. И какими-то маленькими уже казались на этом бескрайнем белоснежье. Господи!!! Поверь в нас!!! Мы одиноки!!! Я обхватил ладонями голову, но остановить разбушевавшуюся в ней безумную какофонию уже не мог. Со мной впервые такое было. - Назад!!! - кричала проводница. - Щас отправляемся!!! Те двое брели в своё никуда и не оборачивались. Возможно, они и не слышали даже. Снег всё усиливался. Господи!!! Поверь!!! В нас!!! Мы!!! Одиноки!!! Проводница вдруг с места сорвалась и бросилась за этими двоими вслед. Наверное, хотела их вернуть. Если что — так и силой. Так мне подумалось. Ей приходилось тяжело. Те двое хотя и проложили какой-никакой путь, а снега было много. Женщина прямо зарывалась в нём. Несколько раз упала, не удержав равновесия, но поднималась и снова двигалась, как по болоту какому. Ноги надо было выдёргивать из снега, как из болотной жижи. Я слышал, как она кричала вслед уходящим: - Подождите!!! Стойте!!! Но они не останавливались, конечно. - Петя!!! - слышалось мне. - Петя!!! Снег валил и валил. Похоже было, что начинается метель. - Петя!!! Петруша!!! Петрушка мой!!! Мужчина вдруг остановился и обернулся. Смотрел на догонявшую их женщину. Она заторопилась и добежала, наконец. Последний рывок сделала, и так получилось, что с размаху упала на Петра Тимофеевича, буквально уткнулась ему в грудь лицом. Платок её сбился, удерживался на плечах. А она, глядя в глаза Петру Тимофеевичу, что-то говорила ему сквозь слёзы быстро-быстро. Он, хотя и стоял прежде столб столбом, вдруг обхватил её руками, обнял, а она всё говорила и говорила, но про что говорила — до меня не долетало. Потом они подхватили сумки эти неподъёмные и пошли вверх по склону, уже втроём. Господь сам не действует. Он действует через нас. Так моя мама говорит. Шум в тамбуре, и в снег, меня не замечая, вывалился начальник поезда. Увидел троих уходящих и заорал так же, как пять минут назад и проводница кричала: - Куда?! Назад!!! И так же бесполезно это было. Даже не оборачивались. - Шангина!!! Назад!!! - бесновался усатый. - Ответишь по всей строгости!!! Он, наверное, хотел посмотреть, многие ли этот позор видят, обернулся, обнаружил меня, и тут с ним такое сделалось, какое бывает с человеком, о котором вся правда раскрылась в одно мгновение. Вся неприглядная правда. Таился человек, таился, уже поверил в то, что обошлось, а оно вот так вот — хлоп! — и как прежде никогда уже не будет для него. - Ну, увидел?! Вынюхал?! Давай, любуйся, как оно у нас!!! Как бы улыбался он, но это не улыбка была, а оскал. Бешенство настоящее. - А ты, наверное, думал, что шито-крыто едешь, что я тебя не распознал?! Да я ж тебя сразу! В первый миг! Я ж тебя видел вот как сейчас, когда к начальнику твоему, Башмыхину, приезжал! Это ты меня забыл, ага, а я-то помню! Память у меня на лица первостатейная! Он наступал на меня и тряс кулаками перед моим лицом. Мне казалось, что он с удовольствием меня побил бы, вот измордовал бы прямо. Но он боялся. Потому что и без того дела его плохи были. И он в бессильной ярости только кричал: - Шпионить!!! Против нас!!! Давай!!! Башмыхин тебе премию подкинет!!! Сил не было смотреть на то, как он убивался. Я развернулся и молча поднялся в вагон. Слышал, как начальник поезда прокричал машинисту: - Отправляй!!! Поехали!!! И мотаня почти сразу тронулась. Женщины наши уже не спали. - Что там такое было? - спросили у меня. - Ушёл наш Пётр Тимофеевич. С сыном. И проводница с ними. Они изумились сильно, хотели переспросить, да в это время по коридору проходил начальник поезда, и я спросил у него: - Проводница эта, Шангина … Она Ольга Тимофеевна? - Именно! - процедил он сквозь зубы, даже не взглянув на меня, и ушёл. А я сидел и слова вымолвить не мог. Только теперь осознал, чему недавно стал свидетелем. Через два часа мы были в Октябрьском. Я вышел из вагона и пошёл вдоль состава к зданию вокзала. Завидев меня издалека, начальник поезда повернулся ко мне спиной и стоял так всё время, пока я мимо него не прошёл. А у дверей вокзала я столкнулся с помятым парнем, лицо которого мне было знакомо. Он пьяный был вчера. И начальник поезда отказывался его сажать в вагон. Когда я мимо пробегал. А после, значит, посадил. Это по станции Мржа, я помню. И правильно начальник сделал, подумал я. Пьяный очень парень был вчера. Упал бы в сугроб и замёрз там насмерть. А так вот он — среди людей. Никаких дел у меня в Октябрьском не было и через несколько часов я той же мотаней уехал. Начальник поезда видел, как я садился в вагон, но за всю дорогу у нас так и не появился. Через два часа после отправления мы проезжали Покровку. Снег здесь валил по- прежнему. Я выглядывал за окно. Но никого там не увидел. Белое безлюдье. Каково там Петру Тимофеевичу? Да и добрались ли по такому снегу? Доехав до Шелемахи ранним утром следующего дня, я пересел в нужный мне поезд и отправился к себе. Уже днём был дома. От работы я живу недалеко. Поэтому вечером туда сходил на всякий случай, хотя была пятница, а я официально в командировке до понедельника. Зашёл к старику Кузовлёву. - О, Анатолий, здравствуйте! - приветствовал он меня. Его рукопожатие было тёплым, каким-то домашним, уютным. - Как съездили? Я ему рассказал. - Да, мотаня отжила своё, - сказал Кузовлёв и получилось это у него так печально, будто я ему о его собственном возрасте напомнил. Мне даже неловко стало. - Готовьтесь к понедельнику, Анатолий. Совещание в двенадцать. Там всё и расскажете. Башмыхина сейчас нет. Он сам в командировке. А в понедельник будет, да. Помолчал. Смотрел он при этом куда-то за окно. И после долгой паузы произнёс задумчиво: - А мотаню жаль. Нужный поезд. Посмотрел мне в глаза. И сказал мне непонятное: - С людьми поезд, да. В понедельник Башмыхин, действительно, был на работе. И в двенадцать совещание началось. Башмыхин сидел во главе своего огромного, буквой Т, стола, а остальные все начальники уселись за столом в два ряда, лицом к лицу. Мой вопрос был третьим. Так что я не за столом сидел, а на стуле у стены. Издалека наблюдал. Волновался, конечно. Мне уже приходилось в командировки ездить. Но там было как? Вернулся из командировки, перед начальником своим отчитался, и свободен. А чтобы перед Башмыхиным лично, да на совещании — это в первый раз. И когда меня подняли с места, я всполошился, перебрал торопливо листочки с текстом, подготовленные для пущей уверенности. Вышел к трибуне, за которой у нас принято выступать с докладами, а когда поднял голову, увидел, что Башмыхин не смотрит на меня, а перебирает свои бумаги на столе. Я не знал даже, можно ли мне начинать. Неуверенность была такая. Тогда я стал смотреть на присутствующих. А они смотрели на меня. Внимательно. Я в этом кабинете сейчас был самым молодым. Они-то вот уже повидали всякое и всяких. Зубры такие. Опытные. А я будто случайно здесь очутился. Не по праву. До меня вдруг дошло, что вот сейчас, возможно, моя карьера только и начинается. Меня испытывают. А на что, мол, парень, ты способен. Дали тебе первое серьёзное задание. Посмотрим, как ты справился. - Boпpoc по поезду Шелемаха-Октябрьское рассматривается, - сказал Башмыхин. - Как вы знаете, Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации определяет такие линии как малоинтенсивные. С невысокой грузонапряжённостью и низкой эффективностью работы. Прямо про этот поезд. В связи с оптимизацией, которая ныне проводится в РЖД, такие направления закрываются. Мы не порем горячку. Не рубим сплеча. Туда комиссию направим. Boпpoc изучим. Комиссия подготовит предложения. Тогда и примем взвешенное решение. А Анатолия Дмитриевича мы предварительно туда отправили. Наш передовой отряд, можно сказать. Разведка. И вот он нам самую свежую информацию привёз. Расскажите, Анатолий Дмитриевич, что видели, что слышали, и какие ваши выводы. Он поднял, наконец, на меня глаза, и я в том взгляде всё прочитал. Он осторожный очень, Башмыхин. Он никогда не мчится вскачь, а обязательно соломки подстелет. Вот если нужно решение принять какое-то, Башмыхин наш, будучи железнодорожником многоопытным, быстро сообразит и правильный найдёт ответ. Но этот ответ он так сразу никому не скажет. Он даст возможность подчинённым самостоятельно к нужному ответу придти. Как бы самостоятельно. С одним поговорит прежде, с другим, мысли какие-то пробросит, даже обсудит вроде бы что-то с подчинёнными. А у нас тут дураков не держат. Люди понимают, откуда ветер дует. И куда. И начинают они все решения и соображения подгонять под нужный ответ. И вот ответ этот вызрел. То есть Башмыхину сразу было известно, к чему мы в итоге придём. Но тут был задействован коллектив. Доклады составлялись, справки разные, сотрудники многоопытные свои заключения давали. И всё это в папки подшивалось. И вот выносят, наконец, окончательное решение. Какое нужно. И если вдруг что-то пошло не так – не придерёшься. Для любой комиссии найдётся необходимая бумажка. Вот мотаня эта. Она обречена. Мне наш Кузовлёв рассказывал по секрету. Мало того, что поезд этот убыточный, так ещё и мешает он там грузоперевозчикам. Путь одноколейный. И по нему идут и идут составы с лесом. А тут мотаня эта. Тормозит там всё. Потому что не разъедешься. И вот мотаню под оптимизацию подводят. В утиль сдадут. Но надо прежде всё оформить грамотно. Вот меня отправили. После меня комиссия поедет. Бумажка к бумажке. И будет решение. Башмыхин смотрел на меня, не мигая. И я, холодея под этим взглядом, приступил. - Комиссия проработает все вопросы, - произнёс я деревянным голосом. - И на место выедет, конечно. Изучит. Но я расскажу о том, что видел лично. Возможно, это поможет коллегам при подготовке предложений. Поезд Шелемаха-Октябрьское имеет оборот двое суток. Состав единственный. Вагонов семь. Средний возраст вагонов составляет около 40 лет, что более чем вдвое превышает данный показатель для плацкартных вагонов по РЖД. Техническое состояние вагонов неудовлетворительное. По сроку службы эти вагоны подлежат исключению из парка. Одним словом — металлолом. Башмыхин слушал внимательно. И все слушали. Я заглянул в свои бумажки, чтобы не сбиться, и прочитал: - Я просмотрел статистику за прошлый год. Наполняемость поезда составляет двадцать восемь процентов. Лёгкий гул. Ну да, деньги на ветер. Не поезд, а воздуховоз. - Поезд убыточный. Он не единственный такой на нашей дороге, но самый убыточный из всех. Я аккуратно, листочек к листочку, сложил свои записи. - У вас всё? - вроде бы даже удивился Башмыхин. Мол, кратко как получилось. - Нет, не всё. Я ещё сказать хочу. Поезд старый и убыточный. А отменять его нельзя. Башмыхин опустил глаза. Как будто я сказал какую-то бестактность, и ему теперь неприятно было на меня смотреть. - Там дикая природа. Сплошной лес. Местами между населёнными пунктами десятки километров. Зимой после снегопадов второстепенные автодороги по две недели не расчищают. Проезд там невозможен. А железная дорога работает всегда. Я видел в поезде родителей с детьми. Я видел стариков. Они автобусом поедут в Шелемаху? А если автобус в дороге сломается? Той ночью, когда я ехал в Октябрьское, мороз был под сорок. Что будет с этими людьми? Башмыхин поднял, наконец, глаза на меня. И у меня сердце сжалось. Но я ещё смог продолжить. - Я видел там рабочих, вахтовиков. На работу ехали в Октябрьское. Там новое производство открывается, будут пиломатериалы выпускать, людей на работу уже набирают. Вахтовиков больше станет. Им как быть? Далее. Многие остановки поезда отменены. Люди из своих деревень уехали. Отменим поезд — уедут и из других деревень, где ещё живут. Земля обезлюдеет совсем. Я видел мужчину, который тридцать лет назад уехал оттуда. И вот вернулся. Поезда не будет — он там пропадёт. Там, где железная дорога — там есть жизнь. Где дороги нет — там запустение. Вот тут я захлебнулся воздухом и замолчал. Села батарейка, как мой папа говорит. - Позвольте, я скажу, Евгений Александрович, - обратился к Башмыкину Приходько. Этот да, этот скажет. Башмыкин величественно кивнул. - Опыт, конечно, дело наживное, - сказал Приходько. - И Анатолий Дмитриевич со временем научится зрить в корень. Он способный, я в него верю. Но тут он пока демонстрирует нам свою неподготовленность. За деревьями не видит леса. Вот мужчина там вернулся какой-то. Очень интересно это нам, не спорю. На совещание мы собрались, значит, не зря. Но по нашей дороге пассажиропоток по прошлому году только в дальнем сообщении составил четыре миллиона пассажиров, а в пригородном — все двенадцать миллионов. Мы другими мыслим категориями. Это раз. Далее. Мы не волонтёры. Благотворительностью не занимаемся. За финансовые показатели с нас строгий спрос. Это два. По мотане этой, как её в народе называют, вопрос надо было решать ещё лет десять назад. А мы всё тянули, тянули. Поезд небезопасен, пора это признать. Это три. У меня на этом всё. Приходько посмотрел на меня снисходительно и опустился на стул. Он знал правила игры. И всегда их соблюдал. Потому и на коне. А я, получается, сплоховал. Не оправдал доверия. Меня душила обида. Я резко поднялся. Сам от себя не ожидал подобной прыти. Стоял, набычившись. И лицо у меня было красное-красное. Сам-то я этого не видел, конечно. Это мне позже Кузовлёв рассказывал, который тоже присутствовал на том совещании. - Мне родители говорят: «Сказал правду — одного Бога и бойся!», - выпалил я. И увидел, как поползли вверх брови нашего Башмыхина. На самом деле я всегда его боялся. И в тот день — тоже. Но меня, говорю же вам, душила обида. За Петра Тимофеевича. За сынишку его обречённого. - А я сказал правду! Да, я знаю, мы миллионами считаем пассажиров. Только миллионы эти состоят из людей. Вот из каждого! Поштучно! То есть подушно, да! Я сбивался и боялся, что не смогу закончить. Только бы они не начали смеяться надо мной. - Мы о них должны думать. Вот о каждом! Мы не волонтёры. И не благотворительная организация. Я согласен. Мы — РЖД. Знаете, как РЖД расшифровывается? Не только так, как мы все привыкли. А вот ещё придумали, что РЖД — это Россиянам Желаем Добра! По первым буквам так и выходит. Мы не можем думать всё время о миллионах тонн и номенклатуре грузов. Потому что тогда люди здесь — где? Я смотрел Башмыхину в глаза. И видел в них приговор себе. Следователь, ага. Каждое слово по году тебе прибавляет тюрьмы. - Спасибо. Садитесь, Анатолий Дмитриевич, - сказал Башмыхин. Четыре года, ясно. Это шутка. А на самом деле я уволен. Ну и пусть. - Четвёртый вопрос рассматриваем, - объявил Башмыхин. Вот так, через запятую. Процедура. Этот поезд не останавливается. И не замечает никого, кто ненароком угодил под его колёса. - Позвольте, я скажу, - вдруг поднял руку, как ученик на уроке, Кузовлёв. Башмыхин повернулся в его сторону и глянул поверх очков. - По какому вопросу? По четвёртому? - Нет, по третьему. - То есть Анатолия Дмитриевича желаете дополнить? Башмыхин вообще всё всегда схватывал на лету. - Да, - ответил Кузовлёв твёрдо. - Возвращаемся к третьему вопросу, - сообщил Башмыхин таким безразличным тоном, что непонятно было, досадует он из-за этой задержки, или нет. Кузовлёв поднялся. Все теперь смотрели на него. Кузовлёв – он самый старый был у нас. Опытный, да. Если что неразрешимое, если тупик – так все к нему. Может, потому и не на пенсии он до сих пор. Держат, чтобы если проблема – так он под рукой и ехать за ним домой не надо. Сам он на первые роли никогда не лез. Сидел себе, отчёты изучал. Спросят его – ответит, поможет. А сам без нажима. Тихоня. Жену три года назад похоронил. Рак. От рака спасенья нету, как говорил сталбыть. Так что работа для Кузовлёва – это всё. Дома бы помер, если в бездействии. - Анатолий Дмитриевич наш молод, это да, - сказал Кузовлёв. – А молодость – это зрение хорошее, острый глаз. Я думаю, верное было принято решение – его туда в разведку отправить. Поехал. Свежим взглядом незамыленным всё окинул. Своё мнение сформировал и нам озвучил. Я видел, как присутствующие косили взглядами в сторону Башмыхина. Реакции его ждали. - Снять направление можно быстро. А восстановить его потом – целая история. Вряд ли кто здесь это помнит, но ходил когда-то поезд до Должанино. Его давно отменили, ещё в семидесятые. И сейчас там нет ничего. Вот придёт распоряжение поезд восстановить, а инфраструктуры нет. Стрелки в негодность пришли, семафоры разграблены, рельсы местами разобраны… - Так там вообще, наверное, движение отменили, - встрял Приходько. – А здесь грузовое-то останется, лес вывозят. - Я не про грузы. Я про людей. Правильный вопрос поставил Анатолий Дмитриевич: «А люди здесь – где?» Сказал это Кузовлёв и сел. - Вопрос требует дальнейшей проработки, - произнёс Башмыхин. Буднично так сказал. Ни досады в его голосе не угадывалось, ни раздражения. И к следующему вопросу перешли. Будто и не было заминки. Такая вот история случилась в моей жизни три года назад. Меня в тот раз не уволили. Чему я немало удивился. Но в жизни всё гораздо иначе, чем кажется поначалу, я же говорил. Работаю на прежнем месте. И Башмыхин оказался ничего себе мужик. Только вот что странно. Мне Кузовлёв сказал однажды, что Башмыхин на его памяти ни разу ничего не сделал необдуманно. Каждое его решение ведёт всегда к тому, чтобы Башмыхин получил в итоге результат, который изначально и замыслил. И я помню, как в том разговоре Кузовлёв сказал, глядя мне в глаза: «Я думаю, Анатолий, что в тот раз Башмыхин именно Вас не просто так отправил в Шелемаху». Что Кузовлёв имел ввиду? Нет, чепуха какая-то. Башмыхин знал, с какими мыслями я вернусь из командировки? Ещё до того, как я уехал в Шелемаху? Да я и сам тогда не знал, что там увижу. Так что чепуха всё это. А мотаню сохранили, да. Так и ходит из Шелемахи через день. По платформе Покровка теперь делает остановку. Подбирает проводницу в рейс. Ольга Тимофеевна Шангина. В самой Покровке прибавилось народа. Там поселилась молодая пара из Красноярска, художники. Ещё семья с Украины переехала. Муж с женой и ребёнок, которому два года. Завели скотину, фермерами решили сделаться. Пётр Тимофеевич, я слышал, к ним примкнул. Потому что знает всё вокруг. А сын его до сих пор жив. Что-то неверное напророчили врачи. Или ошиблись они. Или воздух тамошний помог парнишке. Целебный, говорят. Там кедра много. Роскошные места. |
 Ингвар Коротков. "А вы пишите, пишите..." (о Книжном салоне "Русской литературы" в Париже) СЕРГЕЙ ФЕДЯКИН. "ОТ МУДРОСТИ – К ЮНОСТИ" (ИГОРЬ ЧИННОВ) «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова в Луганске Павел Банников. Преодоление отчуждения (о "казахской русской поэзии") Прощание с писателем Олесем Бузиной. Билет в бессмертие... Комментариев: 4 НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "СЕБЯ Я ЧУВСТВОВАЛ ПОЭТОМ..." МИХАИЛ КОВСАН. "ЧТО В ИМЕНИ..." ЕВГЕНИЙ ИМИШ. "БАЛЕТ. МЕЧЕТЬ. ВЕРА ИВАНОВНА" СЕРГЕЙ ФОМИН. "АПОЛОГИЯ ДЕРЖИМОРДЫ..." НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "ПОСЛАНИЯ" Владимир Спектор. "День с Михаилом Жванецким в Луганске" "Тутовое дерево, король Лир и кот Фил..." Памяти Армена Джигарханяна. Наталья Баева. "Прощай, Эхнатон!" Объявлен лонг-лист международной литературной премии «Антоновка. 40+» Николай Антропов. Театрализованный концерт «Гранд-Каньон» "МЕЖДУ ЖИВОПИСЬЮ И МУЗЫКОЙ". "Кристаллы" Чюрлёниса ФАТУМ "ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ". К 140-летию музыковеда Леонида Сабанеева "Я УМРУ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ..." К 50-летию со дня смерти Николая Рубцова «ФИЛОСОФСКИЕ ТЕТРАДИ» И ЗАГАДКИ ЧЕРНОВИКА (Ленинские «нотабены») "ИЗ НАРИСОВАННОГО ОСТРОВА...." (К 170-летию Роберта Луиса Стивенсона) «Атака - молчаливое дело». К 95-летию Леонида Аринштейна Александр Евсюков: "Прием заявок первого сезона премии "Антоновка 40+" завершен" Гран-При фестиваля "Чеховская осень-2017" присужден донецкой поэтессе Анне Ревякиной Валентин Курбатов о Валентине Распутине: "Люди бежали к нему, как к собственному сердцу" Комментариев: 1 Эскиз на мамином пианино. Беседа с художником Еленой Юшиной Комментариев: 2 "ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ..." ВАЛЕРИЙ АВДЕЕВ ТАТЬЯНА ПАРСАНОВА. "КОГДА ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО" ОКСАНА СИЛАЕВА. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ Сергей Уткин. "Повернувшийся к памяти" (многословие о шарьинском поэте Викторе Смирнове) Александр Балтин. "Два двухсотлетия: Достоевский и Некрасов" "Идеи, в слово облеченные..." Памяти Валентина Курбатова "РУССКИЙ ХРИСТОС ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА". К 80-летию со дня рождения поэта "КАК АНГЕЛА РАСПЕЧАТЛЕТЬ..." К 190-летию со дня рождения Николая Лескова |


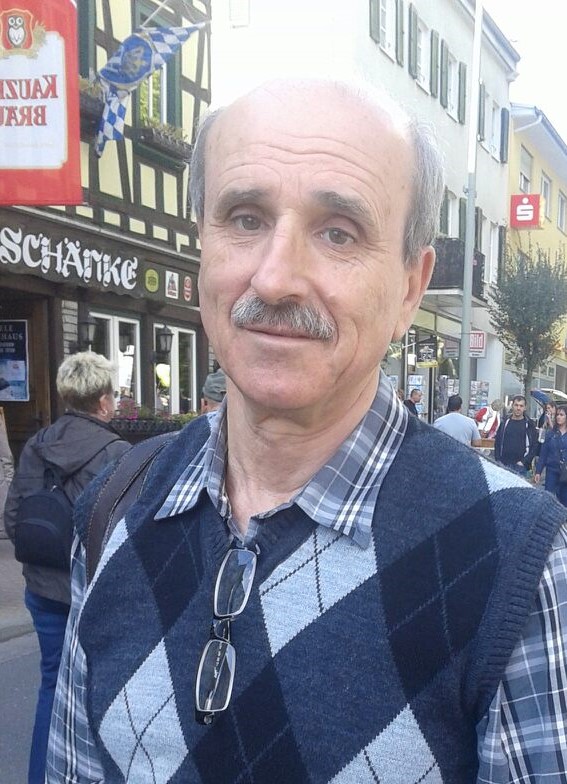

.jpg)




